Вторая часть книги А.Слоневского “Жизнь. Смерть. Воскресение”. Главы 1-4
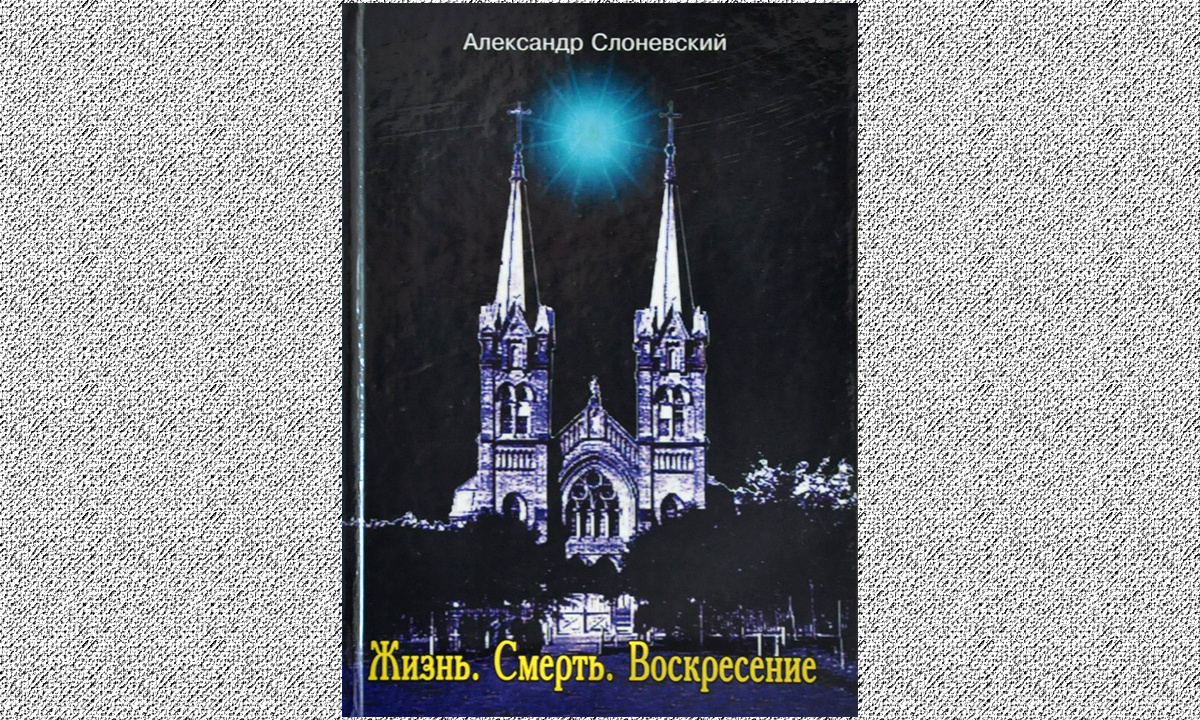
Книга А.Слоневского об одном из красивейших католических храмов Украины – Днепродзержинского (Каменского) костела святого Николая.Часть II. Главы 1-4.
Начало книги про католический костел святого Николая можно прочесть здесь
Часть II
Глава 1. Настоятель костела
– Это совсем не по-советски! – радостно удивился ксендз Мартин, когда во двор костела въехала машина с пятнадцатью рулонами рубероида. – Только утром переговорил с паном Борисовым, а днем уже привезли рубероид!
Хотя ксендз Мартин Янкевич уже более трех лет жил в Украине, к порядкам нашим он привыкнуть так и не смог. Он не смог понять, почему люди у нас не держат слово, почему при открытии магазинов все, отталкивая друг друга, лезут в узкий проем двери, а не подождут пять минут, чтобы спокойно зайти, почему так много ругаются в трамваях и очередях – неужели от этого становится легче? Почему начальники так часто отсутствуют на своих рабочих местах даже в часы приема по личным вопросам, и их приходится неделями вылавливать под кабинетами, чтобы поговорить десять минут? Почему, несмотря на Указ Президента Украины о возвращении церковной собственности, эта собственность не возвращается? Почему работники того же ДОСААФ так наплевательски относятся к тому, что разворовывается их же досаафовское имущество, хранящееся в подвалах костела?
Загадочная советская душа, загадочные порядки, загадочная система! Поэтому было чему удивляться отцу Мартину при виде столь быстро поступившего рубероида.
Впрочем, столь же ошеломляющее впечатление производил и сам ксендз Мартин на всех, с кем сводила его здесь судьба. И в первую очередь на меня.
Тогда, в начале девяностых, мы почти поголовно все были «товарищами», а директорский корпус и подавно. Поэтому, когда я услышал, как ксендз Мартин обратился на нашей первой встрече к генеральному директору ДМК, члену обкома КПСС Юрию Николаевичу Борисову – «пан директор», мне стало плохо.
«Он что, совсем ничего не понимает? Ведь это же директор комбината!» – думал я, приготовившись, что нас с позором выгонят из кабинета.
К моему удивлению, генеральный директор и член обкома, совершенно не обиделся, что его, коммуниста, обозвали «паном директором». Наоборот, Юрию Николаевичу такое обращение пришлось по душе, и было видно, с каким удовольствием он воспринимает это несоветское «пан директор».
Накануне, на проспекте Пелина, нас остановила незнакомая женщина и попросила объяснить дорогу к ЖКО. Было довольно прохладно, и шел мелкий противный дождь. Услышав обращение женщины, ксендз Мартин снял фуражку и, пока я объяснял, стоял с непокрытой головой. От этого его жеста повеяло чем-то таким забытым, далеким, утраченным, что бедная женщина застыла в изумлении и, кажется, совершенно не слушала мои слова. Она во все глаза смотрела на человека, так подчеркнувшего ее женское достоинство. Лично меня от окончательного конфуза спасло то, что я вообще был без головного убора.
– Так сколько вам нужно металла? – спросил «пан Борисов».
– Пятьдесят килограммов стального листа и швеллера килограмм двести. Хорошо бы еще, прошу прощения, труб немного.
У Борисова глаза полезли на лоб, а щеки затряслись от беззвучного смеха, он закашлялся и переспросил:
– Сколько-сколько?
– Стального листа килограмм пятьдесят… мы просчитали, пан директор, и…
– Вы пришли к генеральному директору металлургического комбината просить пятьдесят килограмм листа? Не дам. Меня засмеют! Нет, вы послушайте! Пятьдесят килограмм листа на восстановление костела, каково? Сейчас вы вернетесь в костел и ты – Борисов ткнул пальцем в мою сторону – перепишешь это письмо. Значит так: швеллера просите десять тонн. Вы меня поняли? Десять тонн, а не «килограмм двести», две тонны труб, и три тонны листа. Об остальном поговорим позже. Ну, и помолитесь обо мне, – неожиданно добавил директор.
Воистину, нет бедняка, который не мог бы помочь другому, и нет такого богача, который не нуждался бы в чьей-то поддержке.
Через несколько дней ксендз Мартин опять вогнал меня в краску. Импульс, данный в борисовском кабинете, привел в движение соответствующие рычаги исполнительного механизма, и мы с ксендзом Мартином оказались в компании водителя автомобиля-длинномера, чтобы вывезти из комбината в костел подаренные трубы.
Нужный склад с трубами был, разумеется, закрыт, кладовщица ушла на обед, и нам ничего не оставалось, как только последовать ее примеру. В системе комбинатовского общепита ксендз Мартин ориентировался примерно так же, как и в загадочной советской системе, поэтому заказ пришлось делать мне.
Когда на свободный столик буфета были поставлены тарелки с любительской колбасой и лимонадом, и мы с водителем приготовились вонзить зубы в колбасу, ксендз Мартин встал и начал читать «Отче наш». В буфете воцарилась подозрительная тишина. Движение прекратилось, как и стук вилок о тарелки. Все головы повернулись в нашу сторону. Ксендз Мартин невозмутимо продолжал читать «Отче наш», который мне казался бесконечным. У водителя длинномера отвалилась челюсть. И мы оба не знали, что нам делать. Рабочие в промасленных спецовках с любопытством и скрытой насмешкой смотрели на странного человека в темном пиджаке, который, помолившись, вдобавок еще и еду перекрестил, а потом и сам перекрестился, но как-то «не по-русски».
В этот момент я тоже молился – впервые в жизни. Я молил Бога, чтобы сейчас никто из моих знакомых не вошел в буфет и не увидел меня рядом с ксендзом. И Бог меня услышал. Положительно, этот ксендз Мартин и вне пределов костела оставался священником!
Для ксендза Мартина днепродзержинский костел был уже третьим восстанавливаемым храмом, но первым по огромному объему работ, который предстояло совершить. Ксендз Мартин стоял в самом начале пути, но это не было безнадежностью старта из точки абсолютного покоя – движение уже началось.
Выбрав в костеле относительно пригодный для жилья угол – бывшее захристие, использовавшееся до последнего времени как кабинет экстрасенсорного лечения ДОСААФ – в него вселился ксендз. Можно лишь удивляться мужеству этих людей, сознательно выбравших для себя судьбу идущих от прихода к приходу, восстанавливающих костел за костелом, преодолевающих неустроенность быта, равнодушие чиновников, насмешки люмпен-атеистов, безжизненность израненных душ.
Обретя истинного хозяина, костел немного повеселел и постепенно стал сбрасывать с себя, казалось ничем не пробудимую дремоту, совсем уже было принятую за смерть. Прихожане начали наводить порядок внутри и снаружи здания, потом собирались вместе, пили с ксендзом чай и разговаривали – хорошо! Вкопаны столбы освещения, навешены ворота и наняты трое рабочих, готовящие костел к зиме. При их найме ксендз Мартин поставил одно условие:
– Не смотрите на костел как на завод, не думайте о том, что и как унести отсюда домой. Думайте о том, что принести сюда, чтобы дело пошло быстрее.
Один из рабочих – Сергей Федоров – так прикипел к костелу и ксендзу Мартину лично, что на многие годы стал незаменимым в костеле человеком, отдававшим всего себя делу возрождения католического храма. Он обращался к ксендзу «отче» и в этом обращении сквозило то чувство, которое он испытывал к настоятелю костела, и кем в действительности – отцом и другом – стал ксендз Мартин для Сергея Федорова.
«Кооператоры» уходили из костела неохотно. Руководители ДОСААФа, «Олимпа», «Дизайна», «Посредника» все старались оттянуть свой уход из костела, надеясь, что ситуация изменится, что ксендз Мартин – это не серьезно, и они смогут и дальше пребывать на своих насиженных местах.
А ксендз Мартин просил «нажимать». Мы с Сергеем Федоровым нажимали: уговаривали, убеждали, поторапливали. В конце концов, один из «кооператоров» – Дим Димыч – в сердцах сказал:
– Сережа! Ведь ты же русский! Кому ты помогаешь?
Чем больше я общался с католическими священниками, тем сильней проникался ощущением исключительности этих людей. Наполненные внутренним светом веры, добра и глубокой порядочности, они – свидетельствуя о свете – изливают через Слово Божье этот свет, мягко струящийся золотым сиянием христианства. Помню в детстве, у нас, мальчишек, была такая игра: на лист бумаги насыпалась щепотка дорожной пыли, а снизу под листом водили магнитом. Под воздействием магнитного поля окислы железа, в изобилии содержащиеся в днепродзержинской пыли, принимали правильные очертания, выстраиваясь в некие ряды и узоры. Но стоило убрать магнит, и правильность тут же исчезала, рушился порядок, а на бумаге оставалась лишь серая пыль, таящая в себе верные магниту частицы. Не так ли и священники притягивают души и сердца людей, вырывая их одного за другим, из серости и бессмысленности существования вне Бога и Церкви?
Постепенно вокруг костела начала складываться благожелательная атмосфера. Выяснилось, что хорошие люди и у нас не перевелись, и руководимые ими предприятия и организации, имеющие хотя бы минимальную самостоятельность, оказывали костелу посильную помощь. Метизный завод выделил гвозди, мебельная фабрика изготовила крест и скамейки, психиатрическая больница провела субботник во дворе костела и кормила костельных рабочих и настоятеля обедами, а проектная организация с абсолютно непроизносимым для отца Мартина названием «Укрремжилпроект» уступила по очень сходной цене 50 кресел.
Настоятель костела, как и подобает главе прихода, вникал во все большие и малые проблемы своей парафии и при необходимости засучивал рукава и занимался физическим трудом наравне с рабочими и прихожанами. Надо! И все же, в первую голову, он лицо духовное.
Как преображается Мартин Янкевич, когда вместо мирской одежды надевает черную сутану, а поверх нее соответствующие одежды и выходит служить воскресную мессу! И пусть он не так ставит ударения, употребляет вперемешку украинские, польские и русские слова, его слушают, затаив дыхание, – он несет Слово Божье, он возрождает духовный костел, он нужен людям. Кажется, он послан сюда Богом, чтобы мы поняли: выход есть, не все так безнадежно. Ведь вот он, из плоти и крови, между нами. Но где-то же он родился, воспитывался, жил, думал, мечтал. Он дышал тем же воздухом, что и мы, но как-то по-иному, наверное, дышал? По-иному думал? По-иному воспитывался?
В костеле появились первые дети. Это были живущие неподалеку неразлучные друзья Димка Савенков и Вовка Шатик. Залетев как-то во двор костела, они были перехвачены ксендзом Мартином, да так и остались. Прибегая сюда каждый день, они не сводили с ксендза Мартина восторженных глаз, который очень быстро стал для них авторитетом номер один. Они стали первыми министрантами (помощниками на службе) и с детской непосредственностью говорили, что после школы, если провалятся на экзаменах в медицинский институт, пойдут в священники.
– Так почему ты хочешь стать священником? – с улыбкой спрашивал ксендз Мартин у Димы Савенкова. – Потому что ксендз не работает на заводе, только все время молится в костеле, да?
– Нет, мы же видим, как вам тяжело и как вы страдаете, – был ответ пацана. Удивительно…
Был ли одинок ксендз Мартин – единственный на то время римско-католический священник во всей огромной Днепропетровской области, прихватывающий в своих пастырских поездках еще и Запорожье, и Кировоград? Не знаю. Но я видел, как расцветает он во время реколлекционных встреч священников, проводимых в Днепродзержинском костеле. Чувствовалось, как бесконечно рад он видеть своих собратьев по служению и вере, каким окрыленным, искрометным, радостным становился он, общаясь с теми, кто, как и он, нес сюда Слово Божье.
Во многом отец Мартин оставался для нас непонятным. С трудом подбирая слова, он говорил о странных и, казалось, ненужных вещах, о нравственных категориях и об израненных душах. Нашим же главным приоритетом было восстановление костела.
– Без сомнения, костел можно так отремонтировать и внутри, и снаружи, что он будет выглядеть, как игрушка, – отвечал ксендз Мартин. – Но к чему блеск и красота, если храм пуст? Все это имеет смысл только в том случае, когда костел служит людям, когда в нем царит христианская жизнь.
– Но ведь можно восстановить костел, – говорили мы, – и он сам будет своей красотой и величием привлекать людей?
– Никакие проблемы строительства не могут стоять впереди человека. Костел – это не театр, где каждое воскресенье разыгрывается одна и та же пьеса под названием «Месса», это не клуб и не музей. И в последнюю очередь – это памятник архитектуры. Костел мы должны строить в своих душах. Посмотрите на Запад: сколько прекрасных храмов там пустует, их красота сама по себе не завлекает людей, и костелы закрываются.
Нам было трудно «смотреть на Запад». Из Днепродзержинска Запад просматривался плохо. А еще мы ревновали ксендза Мартина к Днепропетровскому приходу. Нам казалось, что ксендз Мартин – «наш» ксендз, и мы имеем на него больше прав, чем кто-либо. И когда отец Мартин уехал на несколько дней с группой днепропетровских студентов в Карпаты, мы на него просто обиделись.
– Когда же он собирается восстанавливать костел? – шептались между собой наши активисты. – Говорят, он там по Карпатам в шортах ходит, разве он скучает по своему костелу?
А когда через два месяца ксендз Мартин опять повез днепропетровскую молодежь уже в Польшу, в днепродзержинском приходе начал зреть «бунт» против своего настоятеля.
– Он не любит свой костел, – заводили друг друга первые помощники ксендза Мартина.
– Надо позвонить в Харьков ксендзу Юрию.
– Правильно! И просить ксендза Юрия стать нашим настоятелем.
– Как это так! Уехать в Польшу, а нас оставить здесь одних!
В Харьков звонил мой отец. После нескольких неудачных попыток он напал на ксендза Юрия и пригласил нашего любимца приехать в Днепродзержинск отслужить воскресную мессу. Весть о том, что приедет ксендз Юрий, и будут «снимать» ксендза Мартина разлетелась по неокрепшему приходу.
В воскресенье 9 августа 1992 года на мессу пришло около семидесяти человек. Ксендза Юрия встречали у ворот костела, затем провели его по освобожденному первому этажу на второй этаж, где проходили службы.
Ксендз Юрий как всегда с блеском провел мессу, а после нее начал раздавать четки-ружанчики. Всем не хватило, и когда к нему подошла новая прихожанка Валерия Скорик с просьбой дать и ей четки, священник снял ружанчик со своей шеи.
– Это четки моей мамы, – сказал ксендз Юрий, – берите.
Этим прекрасным жестом он навсегда покорил Валерию, которая впоследствии стала одной из самых активных прихожанок костела Святого Николая.
На волне благодарности и умиления к ксендзу Юрию за его приезд, за мессу, за четки для Валерии Скорик нам стало совсем уже себя жалко, и мы начали жаловаться на ксендза Мартина. Основной тон нареканий сводился к тому, что ксендз Мартин недостаточно занимается вверенным ему костелом, и он не имел права уезжать из города, не обеспечив себе замену. И просили ксендза Юрия вернуться в наш приход или, по крайней мере, поговорить с отцом Мартином и рассказать ему, как должно поступать католическому священнику.
Ксендз Юрий был явно обескуражен. Он, казалось, не вполне понимал смысл наших претензий.
– Я знаю ксендза Мартина как очень опытного священника, гораздо более опытного, нежели я сам. Я уверен, что все случившееся является недоразумением, корни которого не лежат так явно на поверхности. Вы его еще полюбите, помяните мое слово. Вы еще за ним плакать будете.
Глава 2. Первый спонсор костела
Однажды в инициативную группу по спасению костела обратилась секретарь городского общества охраны памятников Л. Олещенко с информацией, что меня хочет видеть представитель малого бизнеса города, руководитель объединенных малых предприятий «Орион» Таткин Евгений Митрофанович.
Лариса Андреевна, по видимости, переживала, что ничем не может помочь костелу – хроническая бедность общества охраны памятников общеизвестна – а тут сразу директор объединенных малых предприятий! Елена Григорьевна Фесун, заведующая отделом культуры горисполкома, попыталась несколько умерить мой радостный порыв словами, что не очень-то доверяет людям, да еще нарождающимся бизнесменам, готовым вот так бескорыстно финансировать какое-либо дело, тем более восстановление костела. По ее словам, Таткин уже пытался выкупить кинотеатр «Шевченко» за миллион, потом охладел к кинотеатру, а теперь, неизвестно почему, ринулся спасать храм Божий.
Но скептицизм, наверное, в крови у работников культуры, и я так и сказал Елене Григорьевне:
– Для чего ему нас обманывать? Ведь он сам на нас вышел, не мы его просим, а он сам. Понимаете разницу?
– Не понимаю! – сказала Елена Григорьевна, и я пошел на встречу со спонсором, слегка недоумевая и досадуя на верного, казалось бы, сторонника восстановления костела.
Наверное, она думает, что этот Таткин отберет у нас какую-то ветвь из пальмы первенства, ведь куда как престижно где-то при случае сказать: «Мы спасли костел! Никому до нас не удавалось, а мы спасли». А тут – какой-то Таткин со своими деньгами, перебивает весь приоритет.
Евгения Митрофановича и всю его фирму я нашел в полуподвале, где в свое время располагался штаб Гражданской обороны. Когда-то здесь размещались картины и макеты ядерного взрыва и факторов его поражения, а также человеческая кисть (мы, пацаны, были уверены – настоящая, только высушенная) с какими-то язвами или экземами, не знаю уже точно. Теперь ничего этого не было, подвал был пылен и девственно пуст, лишь в углу стоял какой-то стол с разваливающимися креслами, которые обычно стоят в залах заседаний, кинотеатрах и других местах скоплений скучающих людей.
Евгений Митрофанович оказался крупным мужчиной лет пятидесяти, с большими руками, усталыми, припухлыми глазами и таким же тихим, усталым голосом. Он сказал, что хотя и не имеет прямого отношения к религии, его душа рвется на части, когда он видит разрушенные храмы и, в частности, костел. Нельзя спокойно смотреть, как приходит в упадок наша культура, а такое красивейшее здание используется как склад, военкомат или еще черт знает как. Поэтому он, считая, что деньги – это не все в жизни, приложит все силы, чтобы восстановить костел.
Мне стало неловко за Елену Григорьевну, а еще больше за себя, что под ее влиянием мог усомниться в таком человеке и за то, что все-таки вынужден был его спросить:
– Евгений Митрофанович, ну, а какая ваша заинтересованность, личная выгода в восстановлении костела?
Таткин грустно и как-то чуть осуждающе посмотрел на меня, прошел в свой пустынный кабинет и принес оттуда снимок костела из книги «Описание Днепровского завода» за 1908 год.
– Эта фотография всегда со мной, – просто сказал он, – если мы забудем о душе, о красоте, то, что же мы за люди? Вот и вся выгода. Хотите, я вам ее подарю?
Я был готов провалиться сквозь землю. Передо мной стоял единомышленник, человек, чувствующий, что дальше так жить нельзя, воспринимающий мир не только через призму личной выгоды, а я…
Евгений Митрофанович для начала решил выделить на костел пятьдесят тысяч рублей. Господи, это же столько, сколько пообещал Борисов – руководитель крупнейшего предприятия города. Вот что значит бизнесмен с большой буквы! Прекрасно!
Через некоторое время в непритязательный кабинет Таткина я уже вводил ксендзов Виктора и Николая, а также винницкого архитектора Юрия Плясовицу. Таткин курил сигарету за сигаретой, развивал перед нами свои планы относительно костела, расположил к себе архитектора общими воспоминаниями о годах учебы (мир тесен!), растроганно благодарил ксендза Николая за библию с дарственной надписью и решительно подтвердил свое намерение финансировать проектные работы архитекторов и перечислить деньги на счет костела в Жмеринке. Это ли не удача?!
Шло время. То я, то Цеся и Зося Селянские, то ксендз Мартин регулярно навещали или звонили Таткину, который вот-вот должен был перечислить деньги. Перспективы открывались самые радужные, и однажды после заседания в исполкоме, где Таткин в присутствии заведующей отделом культуры, директора городского музея, главного архитектора города в очередной раз подтвердил готовность восстановить костел, я даже чуть пожалел Елену Григорьевну, что она так плохо разбирается в людях.
Вскоре Евгений Митрофанович пришел в костел. И не один, а со своим заместителем, внушительным Анатолием Александровичем. Таткин выглядел приболевшим и постоянно курил. В костеле было холодно и сыро, но слова руководителя объединенных предприятий согревали душу и зажигали в наших сердцах радостный огонь надежды.
– Для начала нужно иметь грамотного специалиста, который возглавил бы ремонтные работы в костеле, – сказал Таткин. – Такого специалиста я вам найду. Винницкие архитекторы – это хорошо, но на месте должен быть свой прораб. Далее. Устраиваем в костеле штаб восстановительных работ, собираемся каждую среду на восемь утра, докладываем о сделанном и намечаем планы на неделю.
Мы, разинув рты, слушали Таткина. Этот бизнесмен сразу брал быка за рога! Сердце холодело от предчувствия удачи: наш костел восстанет из пепла, и вот он, тот человек, который… ах, просто нет слов…
– Что нам надо в первую очередь? – продолжил Евгений Митрофанович.
– Нужны, прошу прощения, леса, – сказал ксендз Мартин.
Таткин вытащил записную книжку, одним махом набросал в ней схему лесов, креплений, скоб, количество труб, вырвал лист и, передавая его мне, сказал:
– Пойдешь к Борисову, попросишь. Установку беру на себя. Что еще?
– Оцинкованный лист или алюминий на крышу.
– Анатолий Александрович! – обратился бизнесмен к своему заместителю. – Завтра свяжись с авиационным заводом, пусть подготовят алюминиевый лист. Скажешь, для меня.
Анатолий Александрович согласно кивнул. Мы были в шоке. На наших глазах Таткин играючи решал сложнейшие вопросы финансирования, поставок и организации работ.
– Понадобится немало денег, чтобы привести в порядок такую громадину, как костел, – задумчиво рассуждал наш спаситель, – часть выделяем мы, но этого все же недостаточно.
– Недавно здесь были польские предприниматели, – подал я голос. – Они занимаются производством и торговлей швейных товаров и поставками всякого дефицита. Наши бизнесмены их не заинтересовали – слишком несведущи в бизнесе – и они уехали в Польшу. Но у нас есть их координаты…
Евгений Митрофанович укоризненно покачал головой.
– Что ж вы не свели их со мной? Анатолий Александрович, завтра же беги в ОВИР, оформляй визу, поедешь в Польшу. Мы организуем здесь совместное предприятие, а часть прибыли пустим на восстановление костела.
Замдиректора объединенных малых предприятий опять согласно кивнул головой, мы же вошли в состояние транса, воистину этого человека послало нам небо!
– А как же быть с ДОСААФом и «Олимпом»? – заволновались прихожане, видя, что наш бизнесмен может все. – Как их отселить отсюда?
– Анатолий Александрович! – решительно сказал Таткин. – Завтра же, нет, лучше сегодня, иди в Электрические сети, скажешь директору, чтобы изменили схему электроснабжения костела. Мы им отключим свет, а заодно и отопление, и через три дня они сами отсюда убегут!
– Поверьте мне, – проникновенно продолжал Евгений Митрофанович, глядя на наши недоуменные лица, – я знаю эту публику, никакой исполком их отсюда не выселит, а у меня они быстро уберутся.
В тот же день вечером мы с ксендзом Мартином опять встретили заместителя Евгения Митрофановича. В электрических сетях он, пожалуй, еще не был, поскольку выходил на автопилоте из «Рюмочной». Может, он там связывался с авиационным заводом, подумал я. К чести Анатолия Александровича, на ногах он держался весьма твердо. И только громкий мат, вырывавшийся из мощной груди нарождающегося предпринимателя, заставлял предположить, что визу в Польшу он также не оформил.
Несколько дней спустя Таткин сказал, что оплатит проект винницких архитекторов только после проведения экспертизы их работ. Это было странно и походило на банальное нежелание платить. А потом Евгений Митрофанович и вовсе исчез с нашего горизонта.
Цель его действий для меня загадка и поныне.
Глава 3. Месса
Июль, вершина лета. Прозрачное, голубое воскресное утро, обещающее жаркий и знойный день. Солнце просвечивает насквозь улицы и переулки и забирается в самые глухие и укромные уголки. После ослепительного блеска солнечных лучей, костел в первое мгновение кажется внутри почти сумрачным, и непроизвольно вырывается вздох облегчения – как хорошо! – когда, переступив порог, вас обволакивает спасительная прохлада столетнего храма.
Служба в одиннадцать. Но уже разложила ноты и заняла место за органом преподаватель музыкального училища «пани Леночка». Она из той категории сверх добросовестных людей, которые постоянно мучаются при мысли, что что-то получается не так хорошо, как должно бы. Пани Леночка Чечуро неуклонно стремится к совершенству, приходя в отчаяние от невидимых для неискушенного глаза и неслышимых для неискушенного уха недостатков.
Понемногу прихожане заполняют храм. Они входят в зал, опуская пальцы в чашу с освященной водой и крестясь, и склоняют голову в сторону алтаря. Иные и преклоняют колени, а другие безо всяких церемоний тихонько садятся на свободные места. Алтарь – это пока просто стол, покрытый скатертью и убранный цветами, на котором горят две толстые желтые свечи. И все же – это алтарь. Позади него, на все еще разделяющей костел стене из шлакоблока, задрапированной багряной с золотыми разводами тканью, висит распятие – простой деревянный крест, в центре которого прибито распятие поменьше с фигуркой Иисуса Христа.
Рядом с распятием висит изображение Девы Марии и чуть в стороне – икона святого Николая, подаренная костелу настоятелем православного Свято-Николаевского Собора. Слева от распятия, тускло мерцая полированной поверхностью с желтыми и зелеными псевдо каменьями, вмурована в шлакоблочную стену дарохранительница, и красновато подсвечивается нарисованный на стекле крест, символизирующий евхаристическое присутствие в храме живого Иисуса Христа. Далее, выдавая художника-любителя, располагается яркая буколическая картина, изображающая Христа среди пасущихся ягнят на фоне живописных гор.
В костеле стоит сдержанный шум, складывающийся из приветствий входящих в храм, тихих разговоров, неизбежного покашливания, шарканья ног и приглушенных замечаний мамаш и бабушек готовым расшалиться непоседливым детям. Кто-то из сидящих впереди, кажется пани Янина Шатецкая, начинает по-польски читать розарий. Ее поддерживают другие, но многие сидят в молчании, отрешившись от суматохи повседневности и сосредотачиваясь на своих ощущениях и мыслях, которые текут здесь размеренно, плавно и невесомо, достигая таких высот и проникая в такие глубины, абсолютно недоступные в каком-либо другом месте.
Пришел Сергей Никитин, молодой, высокий, красивый парень, с чуть пробивающимся пушком на подбородке. Он учился в Днепропетровском университете, но с помощью ксендза Мартина с этой осени будет студентом католического университета в Люблине. У Сергея доброжелательное, открытое лицо, чистый взгляд и красивый голос. Во многом благодаря ему и органистке «пани Леночке», а до нее – Эдику Рульковскому, песнопения в костеле обретают все большую стройность и слаженность.
– Слава Иисусу Христу! – говорит он, обращаясь к верующим, приступая к небольшой репетиции песен, которые будут звучать сегодня во время мессы.
В черной сутане, поклонившись алтарю, входит в костел ксендз Мартин. Он останавливается между Сергеем и органом, подпевая своим глубоким баритоном и одновременно слушая зал.
О, Иисусе! Тихий и покорный,
Сердце чистое сотвори во мне, –
недружно звучит католический канон.
– Слава Иисусу Христу! – ещё раз приветствует всех отец Мартин, когда отзвучала последняя нота. И перед тем, как идти в захристие, добавляет с бесподобным мягким юмором:
– Кто не уверен в себе, пусть поет потише, правда?
Рядом с пани Яниной Шатецкой садится статная, привлекательная, хотя уже и немолодая блондинка – пани Валерия Скорик. Она всегда стремится попасть пораньше к мессе, но не получается. Пани Валерия по просьбе отца Мартина живет на половине ксендза. Готовит, убирает, гладит, выполняет бесконечную «невидную» домашнюю работу, кормит рабочих, поит чаем и кофе приходящих к ксендзу людей.
Серебряно звонит колокольчик. Все встают, приветствуя вхождение на мессу ксендза Мартина, облаченного в белую ризу-орнат, расшитую зеленой парчой. Торжественно и мощно вступает орган. Все поют, поет и ксендз, проходя сквозь ряды верующих и занимая место за алтарем. Он вздымает кверху руки и произносит:
– Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
– Аминь, – отвечают ему прихожане.
– Господь с вами! – продолжает священник закрепленный и отшлифованный веками диалог.
– И с духом твоим!
Служба началась. В храме около ста человек. Старики и молодые. Мужчины, женщины, дети, но больше женщин. Взгляды всех прикованы к настоятелю, а губы повторяют вместе с ним:
– Слава в вышних Богу, а на земле мир людям Его Благоволенья…
Опять вступает орган, и Сергей устремленным в высь голосом поет славу Отцу небесному. Что-то дрожит и сжимается внутри, все исчезает, растворяется в звуках, и остается только этот орган и голос, голос и орган. И далекое, неуловимое, неосознанное сожаление, что на службе нельзя аплодировать.
Мессу продолжает Литургия Слова. Сегодня отрывок из Писания читает мальчик-министрант Давид. Он такой симпатичный в белой комже – одежде министранта, с по-детски пухлыми щечками, черными-пречерными волосами и серыми глазами. Читает он громко, с воодушевлением, как говорят, «с выражением» и одновременно очень чинно, сохраняя полную серьезность. Слушать его одно удовольствие.
Светлеют лица, разглаживаются морщины, увлажняются глаза и накатывает волна радости и благодарности к костелу, к тому, что есть еще на земле что-то светлое, и к этому мальчику, что он нашелся, такой вот хорошенький, стоит и громко читает Священное Писание.
Второе чтение читает Казимир Краузе, прихожанин старого поколения, учившийся еще перед войной в католической духовной семинарии. После него, раскрыв Евангелие от Матфея, место за амвоном занимает ксендз Мартин.
– …вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял… – оглашает настоятель древние нестареющие слова, которым внимают в храмах Господних на протяжении почти двух тысяч лет, и которые будут звучать до скончания веков.
Прочитав, ксендз закрывает Евангелие, опускает глаза, как бы внутренне набираясь энергии от Святого Письма, и после минутного раздумья начинает проповедь.
– Конечно, Есос Христос не был агрономом, и притча эта не о сельском хозяйстве, – с мимолетной улыбкой говорит отче, как-то по-гречески называя Христа Есосом. – Жизненные блага – это не только результат нашего труда и использования техники. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, говорим мы. Дай нам на сей день! Даже атеист, глядя в звездное небо, с надеждой произносит: Боже, дай дождя! И Бог дает, дает всем, ибо Христос принял смерть за всех, за абсолютно всех людей, – верующих и атеистов, – живших задолго до его Распятия, и нас, сидящих в этом зале, и принял на Себя грехи наши. Но если одним слова Святого Письма, слова священника не доходят до ума, не трогают сердце, и будут они, как то не проросшее зерно из притчи о сеятеле, то для других – это живое Божье Слово. Живое Слово Божие.
Люди не любят показывать свои недостатки, стараются скрыть (правда?) свои проблемы – кому они нужны, кроме нас самих? И все нехорошее, что есть у нас (или пришло к нам) ложится черным слоем на душу, загрязняя ее. Безгрешных людей нет, как нет веры без молитвы и покаяния. Христос нужен всем для искупления грехов и очищения души, только Он один может исцелить нас своей безграничной любовью и наполнить сердца радостью и надеждой. Откройте свои души Господу, подставьте их под очистительный душ Божьего Слова! Не закрывайтесь от Него зонтами каждодневных забот и ложного чувства стыда или гордыни, не допускающего в тайники души никого, даже Господа нашего Езуса Христуса.
В литургическом зале тепло, торжественно и замечательно тихо. С просветленными лицами, с легкими влюбленными улыбками слушают прихожане своего настоятеля. Да, пусть он не всегда правильно выговаривает слова и не так ставит ударения, все это не важно. Лишь изредка, добавляя тишины в зале, чуть скрипнет под кем-нибудь кресло, либо бесплотно донесется едва уловимый шелест улицы. А может, это очищаются души, и они с сухим потрескиванием освобождаются от накопившейся шелухи и грязи?
– Когда открыли костел, и приехал священник, – продолжает ксендз Мартин, – все прибежали смотреть. Ах, как интересно! Ксендз! А теперь привыкли, костел есть, ксендз тут и никуда не уйдет, и вроде бы можно не ходить в костел или через раз, так? Кто-то говорит: мы не против Иисуса Христа, пусть будет. Но надо вскопать участок, и нет времени прийти в костел, надо поставить на ноги детей, достроить гараж, накопить денег на черный день, а тогда уж и к Христу можно пойти. Эти люди, как то зерно, заглушенное сорняками, они считают себя верующими, но так ли это? Нельзя прийти к Христу, не отдавая Ему всего себя.
Можно выучить катехизис за одну ночь, но станешь ли от этого христианином-католиком? А можно не знать многого, но жизнь свою отдать Богу и быть истинно верующим. Психологический момент. С одной стороны Бог. Он может все. У Бога не остается бессильным ни одно слово. Христос сказал умершему Лазарю: встань! И труп Лазаря снова стал человеком. Христос сказал волнам: утихните! И буря прекратилась. С другой стороны – человек. Он думает, почему бы Богу не сделать всех нас верующими, раз Он так всемогущ. Раз Он делал такие чудеса, то пусть сделает еще одно чудесо! Но Бог дал человеку свободу выбора, человек должен сам уверовать, в этом будет его радость, блаженство и смысл жизни. Имеющий уши услышит!
В чем заслуга человека, верующего в очевидное? Вот пришел Бог, я Его увидел и – ага! – теперь я в Него верую. Это не вера, дорогие мои, это констатация факта. На свете есть много удивительных примеров и проявлений силы и могущества Сына Божьего. Или чудесных исцелений, которые регистрирует Церковь. Но не обязательно вам уподобляться Фоме, вложившему пальцы в раны Езуса, чтобы только потом сказать: «Верую!». Христос ответил тогда ему: блаженны, то есть, счастливы, не видевшие и уверовавшие. И когда, братья и сестры, слово Божье, брошенное в ваши души, как зерно в добрую землю, взойдет и принесет плод, вы увидите, насколько изменился мир вокруг вас, насколько изменились вы, делая еще один шаг к спасению и жизни вечной через Христа Господа нашего…
– Аминь, – вместе с ксендзом вздыхают прихожане.
Окончена проповедь. Мысли и чувства, вложенные в нее, как и сам непередаваемый целебный аромат ксендзовой речи, еще витают в воздухе, но месса продолжается. Она идет по строго установленному порядку, и в этом порядке есть что-то завораживающее и одновременно непоколебимо надежное, так было и будет всегда: и сегодня, и завтра, и через пятьдесят лет.
А после проповеди обязательно наступит Литургия Евхаристическая – центральный и кульминационный момент католического Богослужения с провозглашением Великой тайны веры. И со сладким и мучительным удовлетворением, ломая свою гордыню или отвечая на стремление своей души, мужчины и женщины, старики, подростки и дети, почти все, кто пришел сюда, встанут на колени и будут молиться или просто слушать слова священника:
– …это есть Тело, которое за вас предается… это есть чаша крови Моей, нового и вечного завета…
И отвечать:
– Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем…
И все эти сто человек, собравшиеся в храме, будут просить Господа помнить о слуге Его папе Иоанне-Павле Втором, о епископе Яне Ольшанском, всех священниках и всех находящихся здесь, в костеле; об умерших братьях и сестрах и о здоровье маленькой Олеси, которой предстоит тяжелая операция на легких, и о скорейшем восстановлении костела.
А потом обязательно наступит самый любимый и трогательный момент мессы, когда после слов настоятеля:– Мир Господень да будет всегда с вами. Передайте друг другу знак мира…– все с улыбками пожимают друг другу руки, и ксендз Мартин сойдет к прихожанам, и вокруг будет столько доброжелательных лиц и сияющих глаз, и пан Роман осторожно протянет мне руки, и мои ладони утонут в его ручищах и, улыбаясь, мы произнесем: мир вам!
– Мир вам! – пожелают друг другу незнакомые и близкие люди, и немного больше мира, сердечности и теплоты станет вокруг нас.
– Мир вам!
А после начнется обряд Причастия, и орган наполнит костел проникающими под кожу божественными звуками Баха. Возникает ощущение сопричастности высшим тайнам и отрешенности от людской суеты. Начинаешь верить, верить сердцем, а не разумом, когда, остановившись в сутолоке дня, задумаешься о бесконечном.
Звучит Бах. Душа отрывается от тела.
Ксендз Мартин вновь заходит за амвон, приступая к объявлениям.
– Ко мне обращаются люди с просьбой освятить землю из могил усопших родственников или, как говорят, запечатать гроб. Вот и сегодня две женщины обратились. Я не отказываю это делать, но должен прямо вам сказать, это не есть таинство. Если человек, считающий себя католиком, годами, роками не ходил в костел, не исповедовался, не причащался, а потом умер, и вы просите запечатать гроб – думаете, вы за него откупите грехи и все, он уже в раю? Почему не обратились ко мне, пока он был жив? Говорите: он старик, он болен, он не мог прийти в костел? Но ксендз еще здоров, слава Богу. Я могу прийти домой, почему не приглашаете? Или боитесь, если к больному или старику пришел ксендз, значит все – нужно умирать? Нет, елеопомазание не означает смерть, оно может дать отпущение грехов без исповеди и даже сотворить чудо исцеления. Но если человек умрет без исповеди, без священника, что делать? Только и остается, что запечатывать гроб.
– По пятницам в костеле уборка. Благодарение Богу – спасибо – всем, кто приходит и помогает, приглашаем также и тех, кто еще не приходил.
– Сегодня на службе не было мальчиков-министрантов. Это не страйк. Они находятся под Жмеринкой в детском католическом лагере «Оазис». «Оазис» – это подарок епископа и нашей епархии нашим детям. В лагере прекрасные условия для жизни, отдыха и интенсивного католического обучения, все это бескоштовно, бесплатно, за исключением билета на проезд.
– Сегодня я вижу много новых лиц. Если кто-то хочет поговорить со священником, я стану у выхода и ко мне можно подойти. Конечно, все могут поговорить со мной – и те, кто давно ходит в костел, никакой дискриминации тут нет.
Настоятель выдерживает паузу, переходит к алтарю и, как в начале святой мессы, воздев руки горе, начинает завершающий диалог с паствой:
– Господь с вами!
– И с духом твоим.
– Да благословит вас Господь Бог всемогущий – Отец, Сын и Святый Дух!
– Аминь.
– Идите с миром, служба свершилась.
Глава 4. Свидетели преступления
12 декабря 1929 года – в день закрытия костела Святого Николая в Каменском – завершился первый период преступления, которому суждено будет продолжаться более шестидесяти лет. Красавец-костел, равного которому не было на огромной территории в десятки тысяч квадратных километров, начали методично и безжалостно уничтожать и унижать. Казалось бы, кто сейчас вспомнит о преступлении шестидесятилетней давности, кто скажет, что происходило тогда?
Вначале в костеле устроили клуб с танцами и сбросили кресты с башен. Людская молва утверждает, что человек, сделавший это, через три дня погиб в заводе. Как говорится, несчастный случай. Потом сняли и куда-то увезли прекрасную люстру. В начале войны в подвалы костела со всего города свозили детекторные приемники. Власти не могли допустить, чтобы днепродзержинцы узнали правду на фронтах и поддались панике. А из самого костела, превращенного в сборный пункт военкомата, уходили на фронт солдаты – защищать Родину. Во время оккупации эстафету унижения костела приняли фашисты, разместившие в костеле штаб понтонщиков с полевой кухней и лошадьми. Потом вернулись наши и стали добивать костел.
В 1948 году внутри костела, переоборудуемого под призывный пункт военкомата, сооружается второй этаж, а снаружи к бывшему храму пристраивается трехэтажное сооружение с лестничными маршами для захода в зал костела на втором этаже и в кинематографическую будку на третьем этаже. В костел переселился лекторий общества «Знание», а чуть позже и университет марксизма-ленинизма (!). Все это открыто и цинично – а кого бояться, не Бога же! – преподносили как «Знання – в маси!». Костельный орган просто разнесли в щепки, и долго еще трубы органа находили пацаны, рыскающие вокруг костела.
Далее в костеле появился склад фирмы «Мебель», мастерские художественного фонда, морская школа ДОСААФ, кооперативы и спортивно-технические секции того же ДОСААФ. Кажется, никого не забыли? Ах, да, еще планетарий…
Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. И спустя много лет нашлись люди, помнящие события, скрытые шестидесятилетней толщей времени.
Владислава Казимировна Космальская (1910 г.р.)
– В 1925 году я училась в школе католического приюта. В один из вечеров к ксендзу Константину Томашевскому пришел какой-то мужчина и сообщил священнику, что на него написан донос и ночью за ним придут с арестом. Ксендз Томашевский, не медля, не взяв ничего из вещей, уехал из Каменского, предупредив свою экономку, чтобы та не появлялась в костеле. Пришедшие ночью чекисты остались ни с чем.
Анна Войцеховна Крживицкая (1912 г.р.)
– Наша мама, Анеля Крживицкая, была кухаркой у главного инженера завода Матея Погоржельского. Когда началась революция, все начальство завода и польские дворяне-шляхтичи стремились уехать в Польшу. Погоржельский был моим крестным отцом, перед отъездом он подарил мне огромную куклу, я ее до сих пор помню, а маме – золотой кулон с бриллиантом. Мы так плакали, когда они уезжали. Кресты на костеле снимал Чурлей, из поляков, он жил на Украинской улице. Было холодно, но пришло много людей, в основном женщины. Во двор костела нас не пустили. Чурлей по лестнице долез до креста и начал его срезать автогеном, был такой страшный огонь, что все крестились и плакали. А когда крест полетел вниз – по толпе вздох пронесся, так было страшно. В тридцатые годы в Днепродзержинск пришло письмо от ксендза Якова Розенбаха откуда-то с Севера. Он там сидел в лагере и работал на звероферме, ухаживал за пушными зверями. Писал, что людей держат впроголодь, и очень холодно.
Янина Францевна Шатецкая (1920 г.р.)
– В наш дом приходили синеблузники, приносили бумаги на подпись о закрытии костела. Моя мама сказала: «Я костел не открывала, и я его закрывать не буду, поэтому ничего не подпишу».
Алексей Иванович Шелков (1922 г.р.)
– К крестам привязали длинные веревки, и когда один человек резал автогеном крест, другие снизу тянули его, чтобы крест не упал на крышу и не пробил ее. Крест упал около башни у входа в костел, он был такой тяжелый, что прямо встрял в землю и высек искры при падении.
Елена Войцеховна Барановская (1917 г.р.)
– Помню, сидим мы с мамой на мессе в костеле, а там такие были сиденья скользкие, отполированные, и я любила по ним ерзать. Мама ущипнула меня и говорит: «Гелька, не езди! Ты в костеле!» После Первого Причастия мы получили от ксендза Розенбаха по стакану молока и бублику, ведь Первое Причастие нужно принимать на голодный желудок. Красиво пел костельный хор! В нем пели Ада Гуралевич, Стефка Кшиводемска, сестры Люся и Маня Волковские. Я училась в польской школе – бывшем костельном приюте, его тогда уже отобрали у костела. И наш учитель Разумовский заставлял детей подписываться за закрытие костела, а я отказалась. Разумовский вызвал маму в школу, а та сказала ему, что я правильно сделала, что не подписалась, ведь я же хожу в костел! Я сама не помню, но мама мне говорила, как после революции из Каменского уезжали поляки. Лучшие люди уезжали: инженер Погоржельский, врач Пухальский… А Заборовский – застрелился, не успел уехать, он работал каким-то начальником на фабрике, и его хотели арестовать. А еще помню, в костеле были активные прихожане – муж и жена Пацановские. Она была хорошей художницей и расписала стены в костеле, когда ксендз Розенбах делал последний ремонт. Ее позже репрессировали, но потом отпустили. А ее муж на Рождество, когда уже запрещали власти зажигать много света, взял и устроил в костеле настоящую иллюминацию. Пацановский работал электриком и на Святой Вечер подключил в костеле большую люстру и все лампы. И всю Рождественскую ночь костел светился огнями. Пацановского арестовали, и он больше не вернулся. В конце тридцатых годов власти уничтожили и наше кладбище и разбили на его месте городской парк. У меня там сестра Ядвига похоронена, тетя Барбара и другие родственники. Людям даже не дали перезахоронить своих близких. Красивое было кладбище, с памятниками, крестами, скульптурами. Приехали бульдозеры, все вывернули, разровняли, погрузили в самосвалы. Потом уже и не поймешь: где кто лежал…
Генрих Александрович Кушковский (1901 г.р.)
– Как снимали кресты, я не видел: пришел на другой день к костелу, крестов нет, только лестница лежит на крыше. Всех, кто снимал кресты, потом тоже арестовали и отправили в Сибирь. Девушек, которые пели в костельном хоре, многих репрессировали. Когда закрыли костел, привели туда моего брата, к алтарю Иисуса Христа, где он в гробу лежал, и говорят:
– Корnij noga! Корnij noga!
Он ударил, послушался, и у него отнялись ноги. Танцевали потом в костеле. Открыли польский клуб, устраивали танцы и танцевали. А кое-кто из тех, кто танцевал, сейчас опять ходят в костел молиться. Когда окончательно закрыли костел, комсомольцы наряжались в одежды священников, изъятые в костеле, и с гиканьем прыгали и скакали в них на первомайских демонстрациях, изображая из себя невесть что. Я им руки до сих пор не подаю.
Владимир Казимирович Рульковский (1918 г.р.)
– Когда с башен костела сбили кресты, они, падая вниз, высекали страшный огонь, на что люди смотрели с ужасом. Через некоторое время на башнях вместо крестов установили красные звезды, как надругательство над религией, костелом и людьми. В польском клубе, устроенном в костеле, проходили представления, открыли любительский театр, библиотеку и кино. Потом было уничтожено Заводское кладбище. Там был похоронен мой отец, его могила находилась рядом с могилой сына Ясюковича – Павликом. На этом месте установили «чертово колесо».
Казимира Павловна Товкевич (1902 г.р.)
– Как-то перед войной во Дворец культуры металлургов привезли большой кованый сундук, набитый чашами, тарелками, блестящими блюдами, кубками, принадлежавшими когда-то костелу. И эти ценные, а может и уникальные, вещи раздавались в качестве призов победителям спортивных соревнований, проводившихся в спортивном клубе «Металлург». Когда город оказался под угрозой оккупации, сундук со всем содержимым закопали в землю. Чтоб не достался врагу! А после освобождения его опять откопали, и при возобновлении спортивной жизни чаши и кубки вновь начали вручать чемпионам. А когда «призы» кончились, куда-то исчез и сундук. Немного позже в тот же Дворец культуры металлургов, уже в театральную студию, были переданы вперемешку церковные – католические и православные – одежды, которые использовались в качестве театрального реквизита.
………
В 1936 году, когда Каменское был переименован в Днепродзержинск, последователи «железного Феликса» устроили в городе Дзержинского-на-Днепре чудовищную резню. Арестовывали, предъявляли нелепые обвинения, и человек исчезал. Навсегда…
Быть поляком в Днепродзержинске представляло особую опасность. Любому из них в любой момент можно было предъявить обвинение в шпионаже в пользу «буржуазной Польши». Но и этого казалось мало днепродзержинским чекистам с холодной головой. В 1938 году ими было сфабриковано громкое дело, которое они же и успешно «разоблачили». Речь идет о процессе над «членами» днепродзержинской «Польской организации войсковой», большинство из которых получили приговор «по первой категории». Другими словами – расстрел. Конечно, этот процесс нельзя назвать антирелигиозным, но с другой стороны все осужденные имели ярко выраженные католические корни. А сколько их еще прошло по другим процессам!
Елена Войцеховна Барановская
– Когда началась война, и немцы заняли Днепродзержинск, они разрешили католикам открыть каплицу в доме пани Стефанкевич по улице Красноармейской 30-9. В доме было две комнаты и кухня. Устройством каплицы занималась Теофилия Кузнецова, Аделя Сенковская и другие. В каплицу перенесли фигуры святых из церкви, распятие, иконы, соорудили алтарь и зажигали на нем свечи. Сюда по большим праздникам даже приходил немецкий ксендз, но тайно. Он не знал ни польского, ни русского языка, поэтому не исповедовал, а только служил литургию.
Казимира Михайловна Колодейченко (1905 г.р.)
– Мы приехали в 1915 году в Екатеринослав из Львова, как беженцы. Часто бывали в Каменском. Ваш костел был внутри очень красивый, но в Екатеринославском костеле орган был гораздо больше вашего – трехклавиатурный. Как заиграет на всю мощь – стены, казалось, лопнут. Я сама была такая активная, непоседа, ни секунды не сидела на месте, красивая! Я и сейчас, слава Богу, ничего, правда? Только зубов нет, и губы позападали. Я пела! Могла «Аве Мария» Шуберта вытянуть, сейчас уже не то, конечно, но голос еще есть. Меня все ксендзы и прихожане уважали, я всю себя отдавала костелу. В 1932-ом году меня полтора месяца держали в Днепропетровском НКВД, все о костеле выпытывали – как и что. Но увидели, что я такая стойкая, и отпустили. Я им сказала тогда: Бог у меня в сердце и оттуда Его никто не вырвет! В Днепропетровске костел тоже закрыли. В войну, правда, его опять открыли, в городе стояли итальянские части, и службу вел итальянский капеллан. А у вас сделали каплицу во флигеле у Стефанкевичевой. Дверь откроешь – и алтарь был виден. Сюда приезжал ксендз Юзеф Кучинский, и к нам в Днепропетровск тоже приезжал. А 10 января 1945 года его арестовали у вас в каплице и отправили в Казахстан на десять лет. Он отслужил мессу в Днепропетровске, а потом поехал в Днепродзержинск и 10 января крестил, и его арестовали за то, что детям не исполнилось восемнадцать лет. Когда умерли Стефанкевичева и Кузнецова, племянница Кузнецовой раздала верующим книги, иконы, подсвечники. И все. Уже и священник не приезжал, некуда было. А я дожила вот до восьмидесяти восьми лет, и Бог дал мне счастье опять ходить в костел и принимать Святое Причастие. Знаете, как я была благодарна ксендзу Мартину, он меня вылечил! У меня воспалился седалищный нерв, я ходить не могла, такие боли. Уже думала, умру. И ксендз Мартин дал мне елеопомазание, как перед смертью, а сам молился за меня и на службах всегда просил Бога о моем здоровье. И я выздоровела! Я говорю ему: спасибо Вам, Отче! А он: это не меня, это Господа нужно благодарить. А я ему: конечно, Его, но и вам спасибо. Я уже в конце жизни, а вот еще раз убедилась: что-то есть такое! Слава Богу!
Историческая справка:
Падре Леони Пьетро Ангелевич. Родился в 1909 году в Италии. Окончил духовную семинарию. В 1927 принял монашеский постриг. В 1931-1940 годах учился в Григорианском университете в Риме. В 1939 посвящён в сан католического священника восточного обряда. В 1940 году назначен капелланом военного госпиталя. В июне 1941 года с итальянской армией вошел в Грецию, в августе 1941-го – в СССР. В период оккупации служил в костеле Святого Иосифа в Днепропетровске. В мае 1943 года с итальянской армией покинул СССР. В конце того же 1943 года падре Ангелевич направлен Ватиканом служить в Одесский костел. 29 апреля 1945 года арестован в Одессе. 12 ноября 1945 года по Постановлению Коллегии МГБ приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Отправлен в Темниковский лагерь. 15 июня 1947 года арестован в лагере, 29 августа 1947-го приговорен к 25 годам каторжных работ и переведен в Дубровлаг. 25 апреля 1955 года освобожден досрочно и 17 мая передан в Вене представителям МИДа Италии. 26 июля 1995 года падре Леони Пьетро Ангелевич умер в Монреале.
Днепродзержинская Мать Тереза
Несомненно, эта женщина совершила жизненный подвиг. В обществе воинствующего атеизма, она на протяжении более двадцати лет удерживала дом молитвы и объединяла католиков Днепродзержинска.
Теофилия Дионисьевна Кузнецова появилась в Каменском в тридцатые годы ушедшего столетия, приехав сюда со своим мужем. Все так ее и звали – пани Кузнецова. Бездетное семейство поселилось на Славянской улице. Во время разгула репрессий муж пани Кузнецовой, опасаясь ареста, покинул жену и город, и больше его не видели.
В годы оккупации немецкие власти разрешили открыть в Каменском православную церковь, баптистский дом молитвы, а также католическую каплицу. Сюда перенесли распятие, скульптуры, иконы, находящиеся до того времени в подвалах церкви, а также на руках у верующих, соорудили алтарь, и начали собираться католики. Несколько раз приходил даже немецкий священник, но, как было сказано выше, он не знал ни польского, ни русского языка, поэтому не исповедовал, а лишь служил Литургию.
С момента открытия каплицы пани Кузнецова принимала в ее жизни самое активное участие. По воспоминаниям очевидцев это была маленькая, худенькая, очень быстрая в движениях женщина, которая «все делала бегом». Всегда чисто одетая, в белой блузке и белой косынке, отзывчивая и бескорыстная, она, казалось, излучала доброту и сострадание к людям. Кроме того, Теофилия Кузнецова была очень мужественным человеком, черпавшей свою отвагу в глубокой и чистой вере.
В 1946 году была официально зарегистрирована днепродзержинская римско-католическая община, и в течение шести лет люди собирались в каплице без священника. В 1952 году уполномоченному по делам религий в Днепропетровске тов. Вильховому было направлено письмо за подписью Кузнецовой, Сенковской и Майкова, в котором верующие просили разрешения на посещение каплицы в Днепродзержинске ксендза из города Полонное Хмельницкой области. Однако тов. Вильховой ответил отказом, мотивируя его тем, что, во-первых, коль шесть лет верующие обходились без ксендза, то и дальше обойдутся, а во-вторых, община зарегистрирована без ксендза и молитвенного здания, поэтому ни о каком посещении священником каплицы не может быть и речи. В 1953 году власти все же разрешили ксендзу Броницкому из Одессы посещать днепродзержинскую каплицу два раза в год, но в мае 1955 года, когда по приглашению костельного совета ксендз должен был пробыть в Днепродзержинске десять дней, местный исполком возражал. Не нужен нашим людям ксендз…
В 1957 году днепродзержинский костельный совет в составе Романишиной (председатель), Кузнецовой, Ковальского, Левицкой, Малишевского направил в Совет по делам религий и культов (или как наивно адресовали католики – «В Московский Духовный Архив») письмо. В нем содержалось прошение вернуть верующим костел, поскольку двухкомнатная каплица по Красноармейской, 30 слишком тесна для большого количества прихожан. Однако председатель днепродзержинского горисполкома Смирнов, кому было поручено разобраться с письмом, отказал верующим на том основании, что государство уже слишком много средств вложило в возведение в 1948 году второго этажа и пристройки к костелу. И католики продолжали собираться в часовне, душой которой, была Теофилия Кузнецова. Она следила за порядком, вела книги и держала связь со священниками из Одессы и западной Украины.
В начале 60-х годов умерла владелица флигеля пани Стефанкевич, и у католиков не хватило средств, чтобы выкупить каплицу. К тому времени власти уже вторично закрыли православную церковь. Смерть пани Стефанкевич явилась прекрасным поводом, чтобы разогнать и католическую общину. Из райисполкома немедленно прислали машину, которую начали загружать католическими реликвиями. Все делалось в спешке и с ожесточенным злорадством. За какой-то час богатая каплица превратилась в ничто. При погрузне статуи швырялись через борт грузовика, большое распятие никак не помещалось, и фигуру Христа стали отдирать от креста. При этом Христу перебили голени и оторвали голову – на такое не решились даже римские легионеры, распявшие Иисуса! И все…
Теофилия Кузнецова попыталась сделать каплицу у себя дома, перенесла часть икон, статуэток, соорудила маленький алтарь, но ее крошечная квартирка не могла служить для культовых целей. Хотя по возрасту пани Кузнецова находилась на пенсии, она оставалась такой же активной, как и в молодые годы, являясь духовным лидером разрозненных католиков Днепродзержинска. Время от времени она продолжала ездить в Одессу, где встречалась со священниками. Поскольку условия в Днепродзержинске были таковы, что о посещении города ксендзами не могло быть и речи, Кузнецова получила в Одессе разрешение совершать самостоятельно некоторые церковные обряды, в том числе крещения. Кузнецову приглашали в католические семьи для совершения обрядов, молитв, пения псалмов.
В 1965 году умерла Ольга Гриневич, сестра некогда знаменитого садовника Карла Ципля. На ее похороны собралось множество людей, почти все католики. И похороны Ольги Богумиловны Гриневич стали символическим траурным акордом по возрожденной, но не признанной днепродзержинской римско-католической общине Святого Николая.
Последние годы жизни пани Кузнецова переписывала из книг псалмы и молитвы и передавала их верующим-католикам. В начале 80-х годов пани Кузнецова заболела раком. У нее открылся незаживающий свищ на груди. И уже за нею ухаживали соседи Рульковские. Теофилия Дионисьевна Кузнецова умерла на 92-ом году жизни в 1981 году, не дождавшись первой мессы под стенами костела, произошедшей 30 ноября 1991 года.
