А.Слоневский. “Жизнь. Смерть. Воскресение”. Последние главы первой части книги
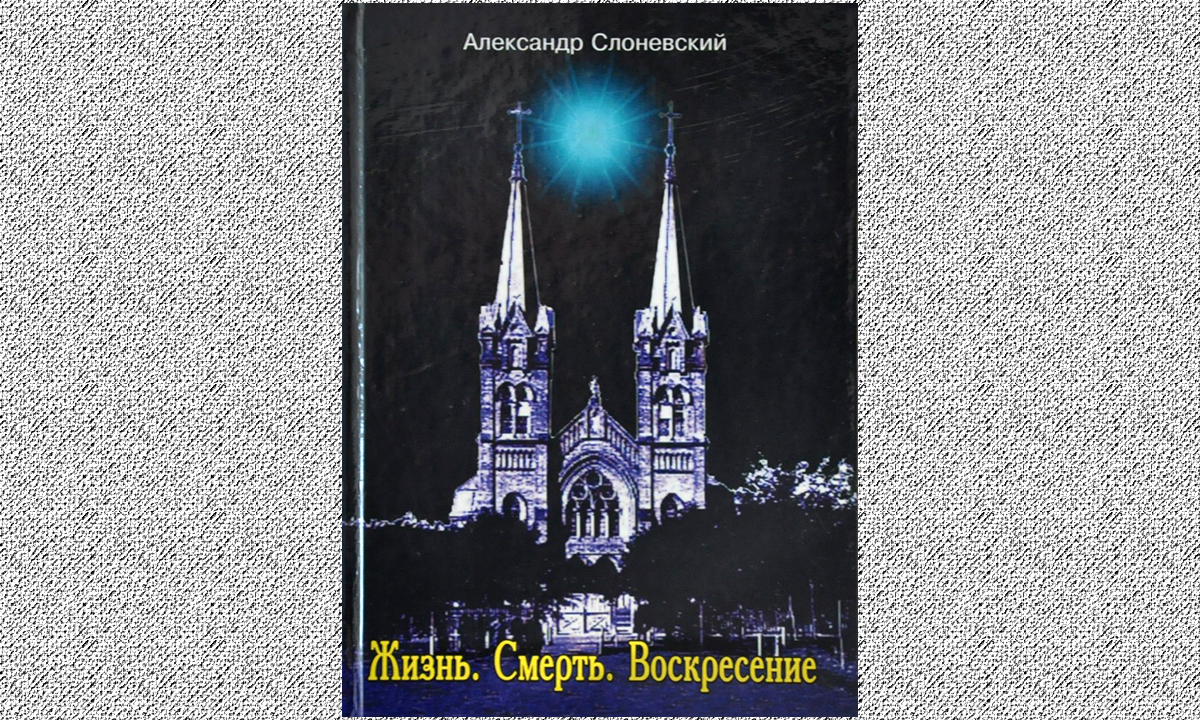
Книжка Александра Слоневского о становлении римско-католической общине в Днепродзержинске. Окончание первой части. Главы 21-23.
Начало книги про костел св. Николая Днепродзержинска читайте тут
Глава 21. Революция
Политические события 1917 года поначалу не очень затронули жизнь католического костела в Каменском. К тому времени настоятелем прихода был назначен пятидесятитрехлетний ксендз Игнатий Мицкевич. Он стал священником в 1888 году, когда в Каменском еще даже не была нанята каплица для богослужений. Ксендз-профессор Духовной семинарии в Саратове, настоятель и армейский капеллан в Астрахани и Одессе, он за заслуги перед Католической Церковью и обществом был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени и наперсным крестом, однако впоследствии за свободомыслие отстранен царскими властями от работы в приходе.
После этого в 1911 году Игнатий Мицкевич был назначен настоятелем приходской церкви во имя Преображения Господня в Пятигорске на Кавказе, но опять же отстранен за свободомыслие. С 1911 года он служил настоятелем в Приходской церкви во имя Преображения Господня Пятигорского отдела Тираспольской епархии. К Пятигорскому приходу причислялись города Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, станция «Минеральные Воды» и колония св. Николая. Надо полагать, что ксендз Игнатий был знаком со многими высокородными жителями Каменского, еще в этом и прошлые годы приезжающие на отдых во Владикавказский уезд Ставропольской губернии. Ему было суждено провести в Каменском самое бурное время: 1917, 1918, 1919 годы. Вместе с ним в разную пору эту участь делили священники Казимир Игнатович, Иоанн Юзвяк, Врублевский, Крычеловский, Ковалевский и вернувшийся из Закавказья Варфоломей Миколаюнас. Революция шумела пока где-то в Петрограде и Москве. Там свергали самодержавие, устанавливали Временное правительство и тоже его свергали.
В Каменском также махали флагами и говорили речи. Арсеничев и Лихоманов зажигали восторгом глаза ничего не понимающих каменчан и призывали превратить войну империалистическую в войну гражданскую. Братья Кальвасинские бегают на митинги и бредят мировой революцией. Ликвидация монархии и наличие в обществе разнополярных сил привели к всеохватывающему хаосу, разгулу стихии и… к полному отсутствию реальной власти.
В начале марта 1917 года в Каменском сформирован Совет рабочих депутатов со значительным перевесом в нем меньшевиков и эсеров. Но постепенно большевики овладевали Советами. Завком, организованный на Днепровском заводе под руководством Советов, ввел восьмичасовой рабочий день и вдвое завысил зарплату. Это не замедлило сказаться на экономических показателях, и завод стал убыточным. В Каменском, в точном согласии с ленинским планом, организована Красная Гвардия, взяты под охрану Днепровский завод, почта и телеграф. 10 января 1918 года в Каменском, полгода назад получившем статус города, была установлена Советская власть. Первым делом Советская власть национализировала парализованный завод и начала давить инакомыслящих, но вопросы свободы совести пока выпадали из поля зрения народившегося монстра.
Второго марта 1918 года в шесть с половиною часов вечера в Каменском костеле произошло венчание пана Юзефа Галлота и пани Ирены Вуйцик, о чем их родители имели честь сообщить в объявлении, опубликованном на польском языке и распространенном по Каменскому. Кстати, в 1909 году отец Ирены, пан Тадеуш Вуйцик, был внесен в Список домовладельцев и служащих Днепровского завода (составленный приставом села Каменского В. А. Клунниковым) как лаборант, проживающий на Нижней колонии в доме № 106. Как давно это было! А ведь еще и десяти лет не прошло…
А через два дня после венчания четы Галлот в городе вводится военное положение в связи с вторжением в Украину австро-венгерских войск. Но, не смотря на военное положение, Каменское было все же занято австро-венграми в апреле 1918 года, оккупация продолжалась по ноябрь того же года. Но и австро-венгры не тронули костел. В мае 25-го дня 1918 года настоятель Каменского Римо-католического Приходского Костела ксендз Игнатий Мицкевич своей подписью и приложением костельной печати удостоверил для шляхтичей Мечислава и Альбины-Схоластики Буковских год, месяц и число рождения и крещения их дочерей Теофилии и Виктории. Супруги Буковские, как и многие поляки Каменского, запасались необходимыми документами на случай эмиграции из Каменского. Но все же не уехали. Какой кошмар их ждал впереди!
Первого сентября 1918 года в разгар австро-венгерской оккупации в костеле Святого Николая ксендзом Игнатием Мицкевичем был окрещен младенец по имени Карл, родившийся в Каменском 16 июля того же года. Родителями окрещенного были законные супруги дворянин Ковенской губернии Новоалександровского уезда Константин Гриневич и мещанка Ольга, урожденная Ципль. Кумовьями предстали Жорж Ципль (брат Ольги) и Элеонора Титаровская (урожденная Шольта). О сем событии в регистрационной костельной книге римско-католической парафии в Каменском была сделана соответствующая запись за № 192. Как это не покажется удивительным, но и во время гражданской войны жизнь католического прихода Святого Николая шла своим чередом. В 1917 году в костеле было окрещено 295 младенцев, в 1918 – 291 и в 1919 – 178!
Но пройдет время, и родители Карла Гриневича подотрут в выписи свидетельства о крещении слово «дворянин», дабы уберечь себя и своего сына от карающего меча революции.
В конце 1918 года власть в Каменском перешла в руки Директории под предводительством Симона Петлюры, а в январе 1919 года – к Советам. На Днепровском заводе строятся бронепоезда «Советская Украина» и «Советская Россия». В новейшей истории Европы ни одна страна не пережила такой всеохватывающей анархии, такой заклятой гражданской борьбы, как Украина в 1919 году. Шесть разных армий действовали на ее территории: украинская, большевистская, белая, Антанты, польская и анархистская. Меньше, чем за год Каменское семь раз переходило из рук в руки. Украина в 1919 году стала страной, которой легко можно было овладеть, но невозможно управлять. Вокруг Каменского свистели нагайками атаманы Нестор Махно и Матвей Григорьев. Вояки Григорьева заняли Каменское и организовали еврейский погром, селяне Аул и Романково, разозленные последствиями политики большевиков, присоединились к григорьевцам. В 1919 году город попеременно переходил в руки то деникинцев, то большевиков. И каждый раз это сопровождалось кровавым террором побеждающей стороны.
Как уже было сказано, в 1917 году настоятелем костела в Каменском был назначен ксендз Игнатий Мицкевич. 16 июня накануне захвата города большевиками ксендз Мицкевич провел очередное крещение. А в ночь с 17 на 18 июня 1919 года он в числе 28 человек администрации Днепровского завода был арестован по постановлению местного ЧК. Арестованные, которых обвиняли в противодействии большевизму, были заперты в подвале под комиссариатом. Впоследствии часть задержанных отпустили, а остальных 17 человек отправили в Екатеринославскую Чрезвычайку. Там было освобождено еще 13 человек, а трех инженеров – Шафрановского, Ходоцкого, Боговича и ксендза Мицкевича чекисты приговорили к расстрелу. Этих трех инженеров также удалось освободить, а ксендза, очевидно, как самого опасного для большевиков противника, отправили на баржу на Днепре, которую предполагалось во время пути взорвать и затопить. Но начался обстрел Екатеринослава казаками генерала Антона Деникина, стража при барже разбежалась, и ксендзу Мицкевичу вместе с другими лицами, главным образом поляками, удалось бежать и скрыться в городе.
26 июля в Каменское вновь вступают отряды Добровольческой армии, а с ними и техперсонал, рабочие Днепровского завода, оставившие Каменское 13 июля при наступлении красных. Вместе с Добровольческой армией в Каменское вернулся и Игнатий Мицкевич. И уже 29 июля настоятель костела провел два крещения.
«1919 года июля 29 дня, – согласно записи №112, сделанной в книге крещаемых, – в Каменском римско-католическом приходском костеле окрещен младенец именами София-Станислава настоятелем священником Мицкевичем со всеми обрядами Таинства. Инженер-технолога дворянина Каменец-Подольской губернии Станислава и Марии-Галины, урожденной Бояновской, Рысинских законных супругов дочь, родившейся 1919 года 10 мая в городе Каменское Каменского прихода. Воспреемниками при Святом крещении были Юрий Бояновский и Мария Дорогостойская».
Это было глубоко символическое крещение, ибо в этот же день был похоронен отец младенца – инженер прокатного отделения Днепровского завода Станислав Рысинский. 16 июля ночью он вместе со служащим главной бухгалтерии Генрихом Маге и служащим кирпичного отделения Сигизмундом Шимкевичем был арестован большевиками. Причина ареста: у Маге найдены эполеты, у Шимкевича – трехцветный бантик. Все трое увезены в штаб большевиков-коммунистов на станцию Воскобойня и утром на следующий день, после неописуемых издевательств и глумления, расстреляны. Через девять дней после смерти тела троих убитых были преданы земле на Заводском кладбище Каменского, городе, который инженер и служащие Днепровского завода считали родным. Тридцативосьмилетний Станислав Паулинович Рысинский и сорокалетний Сигизмунд Михайлович Шимкевич похоронены ксендзом Мицкевичем по католическому обряду. Генрих Карлович Маге, которому через полтора месяца должно было исполниться тридцать один год, – по лютеранскому кистером Менниксером (ГАДО. Ф.193.Оп.3. Д.400). (Кистер – учитель при лютеранской школе – авт.)
…………
При очередной угрозе занятия Каменского красными, Игнатий Мицкевич выехал в Польшу и работал в Люблинской епархии. В 1927 году он вышел на пенсию и стал капелланом в монастыре сестер Уршулянок Серых в Черном Бору близ Вильно. Отошел к Господу в 1935 году.
Не менее мужественным человеком проявил себя Иосиф Алоизий Кесслер, епископ Тираспольской епархии, к которой относился и римско-католический приход города Каменского. Большевистскую власть он считал порождением антихриста. Понимая, что его неминуемо арестуют, епископ Иосиф Кесслер 14 августа 1918 года, перед приходом в Саратов большевиков, пешком ушел из города и добрался до Одессы. После занятия большевиками помещений семинарии и епархиальной курии было обнаружено пастырское послание епископа Кесслера к верующим, угрожающее отлучением от Церкви всем, кто будет содействовать большевикам. Вслед за этим епископ был объявлен ВЧК во всероссийский розыск и заочно приговорен к смертной казни. Первого января 1920 года И. Кесслер оставил территории, контролируемые большевиками и перебрался в парафию Красная в Бессарабии, вошедшую тогда в состав Румынии. Когда и там стали хозяйничать коммунисты, Иосиф Кесслер в январе 1922 года выехал в США. Здесь он собрал 32 тысячи долларов на помощь голодающим немцам Поволжья. Позднее деньги были тайно разделены среди верующих священниками его епархии. Епископ Иосиф Алоизий Кесслер написал историю Тираспольской епархии, изданную в 1930 году в Северной Дакоте, США. В последующие годы жил в Берлине. 23 января 1930 года был назначен титулярным архиепископом Боспорским. Умер 10 декабря 1933 года в Зинновицах (Германия), похоронен в церкви на кладбище Орнбау в Баварии, рядом с епископом Тираспольским Францем Ксаверием Цоттманом.
………….
26 сентября 1919 года на левом берегу Днепра в районе села Паньковка произошло сражение деникинцев с отрядами Петлюры. Бой был ожесточенным, и петлюровцы потерпели поражение. Получив сообщение о наступлении Красной Армии, подпольный комитет Каменского постановил перейти к открытой борьбе с деникинцами. И в ночь на 1 января 1920 года в Каменском была восстановлена Советская власть. Большинство «старой гвардии» Днепровского завода, ввиду начавшихся арестов «бывших» и беспонятия большевиков в вопросах экономики, оставила руководство предприятием, и начался массовый исход специалистов из Каменского. Численность работающих на Днепровском заводе сократилось по сравнению с 1917 годом на 10 тысяч человек.
Страшным выдался 21-й год. Голод и тиф. По улицам Каменского валялись трупы, их никто не убирал. Повсюду смрад, смерть и страх. Страх поселился в Каменском на долгие годы. Проживание в Каменском становилось занятием опасным для жизни, и Каменское стремительно очищалось от тех, кому Днепровский завод и город были обязаны так многим. Национальный и религиозный состав Каменского резко менялся в сторону уменьшения польской и католической составляющих. Из Каменского эшелонами уезжали в Польшу служащие и рабочие, дворяне и простолюдины, которые дальновидно опасались за свою жизнь в кровоточащем осколке Российской Империи. Заработанное упорным трудом золото пряталось в деревянные каблуки, набивалось, зашивалось, засовывалось в самые неожиданные и труднодоступные места. Только бы не ограбили по пути!
А потом, когда уже все совсем ошалели от голода, тифа и военного коммунизма, вдруг наступил НЭП. В городе появилось буквально все, казалось, что вернулось старое время. Но ощущения были обманчивы, а надежды – напрасны. Советская власть начинала затягивать петлю на горле своего народа. Дошла очередь и до свободы совести. Воинствующий атеизм, став господствующей государственной идеологией, не мог мирно сосуществовать с носителями противоположной идеи, утверждавших, что Бог есть, и Он – есть любовь.
С сентября 1919 года администратором и единственным священником Каменского приходского костела Святого Николая становится ксендз Константин Томашевский. Константин Томашевский родился в 1883 году, рукоположен в священники в 1909 году, тогда же и получил свою первую должность викария приходской церкви во имя Святого Иосифа-обручника Пресвятой Девы Марии города Николаева. 21 сентября 1919 года им совершено первое крещение в костеле Святого Николая. «…окрещен младенец по имени Ольгерд администратором священником Томашевским со всеми обрядами Таинства. Крестьян Ковенской губернии Шовинского уезда Юзефа и Розалии, урожденная Эймойтис, Ковалевских законных супругов сын, родившийся 1919 года 2 июля в г. Каменское Каменского римско-католического прихода. Воспреемниками при Святом крещении были Станислав Коморовский и Анна Ковамонис». (ГАДО. Ф.193. Оп.3. Д.396. Запись №136).
А на Рождество 1919 года в Каменском римско-католическом приходском костеле ксендзом Томашевским был окрещен последний младенец дворянского происхождения.
Им стала Халина дочь законных супругов дворян Седисцкой губернии Луковского уезда Владислава и Леокадии-Севены, урожденной Этерович, родившаяся 1919 года 11 декабря в городе Каменское. Воспреемниками при Святом крещении были Станислав Череповицкий и Бронислава Бржезовска. (ГАДО Ф. 193, оп. 3, д. 396, запись №173)
Последним зарегистрированным умершим дворянского рода в Каменском стала 62-летняя дворянка Киевской губернии Людовика Вишневская. Она похоронена ксендзом Томашевским в день православного Рождества 7 января 1920 года на Заводском кладбище. (ГАДО. Ф.193. Оп.3. Д.400). Причиной смерти Людовики Вишневской, как и у большинства каменчан, умерших в 1919-1920 годах, стал сыпной тиф – в городе свирепствовала эпидемия. Как все символично!
………….
Каменской приход в двадцатые годы по-прежнему входил в состав Тираспольской епархии, но уже с центром в Карлсруэ – колонии в Одесской области. Здесь находилась католическая церковь во имя Святых Петра и Павла, сооруженная в 1881 году на общественные средства. А главное, в Карлсруэ еще с благословенных времен функционировала прогимназия, что и послужило причиной перенесения центра епархии из далекого Саратова. Но фактически Каменским приходом управляли из Екатеринославского Губисполкома. Все религиозные общины, в том числе и римско-католический костел Святого Николая, были обязаны ежегодно представлять в Отдел Управления губисполкома списки своих членов. Ах, как понадобятся эти списки органам НКВД лет через десять-пятнадцать! Но костел продолжал существовать. Согласно записям в книге крещаемых Каменского приходского костела, обрывающиеся 18 апреля 1920 года, в приходе со всеми обрядами Таинства окрещено 38 младенцев! Но это уже был закат некогда процветающей католической парафии.
На каждую общину Отделом культа была заведена специальная анкета. Вот что записали в отношении Каменского римско-католического прихода: «Анкета здания: дата постройки – 1897, архитектор Хорманский, община существует с 1888 года. Количество прихожан: до 1917 г. – 7 тыс. человек, 1923 г. – 427, 1924 г. – 518 (поляки, русские, белорусы, прибалты, чехи), рабочие, почти все грамотные. 11.XII – 1923 г. – перерегистрация. Средства – из добровольных пожертвований и кружечного сбора по воскресным и праздничным дням». Какая разительная перемена! Четыреста двадцать семь прихожан в 1923 году по сравнению с семью тысячами до 1917 года.
Чтобы посильнее прижать церковников, Каменской райисполком протоколом №18 от 5-го июля 1924 года (докладчик тов. Загороднов, секретарь Каменского РИК) принял решение о взимании арендной платы за землю, находящуюся под постройками церквей и других молитвенных домов. Арендную плату установили по городу в размере 20 копеек с квадратной сажени, площадь надлежало исчислять с участка, обнесенного оградой. Иными словами, католическая община Каменского, в распоряжении которой находилась территория площадью около 500 квадратных сажень, обязана была ежегодно вносить в казну почти 1000 рублей наличными. Значительная сумма для парафии, потерявшей более 90% своих прихожан!
Тридцатидевятилетний ксендз Томашевский делал все, что мог. Это был решительный, умный и мужественный человек. Его боялись даже комсомольцы и синеблузники, ксендз им спуску не давал. Он начинал мессу ровно в 11.00 и ровно в 12.00 ее заканчивал. В костеле во время богослужения было тихо-тихо, никаких разговоров. Играл орган и пел хор девушек. Верующих приходило уже мало, опасались НКВД. Ксендз Томашевский лично ремонтировал забор и копался в огороде. Об этом через много лет расскажет Генрих Кушковский, которому тогда было чуть больше двадцати.
У одного румынского цыгана молодой Генрих Кушковский купил скрипку, научился играть и пришел к ксендзу Томашевскому, хорошо разбиравшемуся в музыке, на прослушивание. В плебане (доме священника) у ксендза стояло пианино, он проверил слух и голос своего прихожанина, а затем предложил сыграть что-нибудь на скрипке. Ксендз Константин игру Генриха одобрил и посоветовал продолжать музыкальные упражнения.
А крепшая с каждым днем власть продолжала свои упражнения по контролю над всеми сферами жизни Страны Советов.
Второго июня 1925 года Екатеринославским Губадминотделом был зарегистрирован Устав Римско-католической имени Св. Николая Общины, который был вынужден подписать ксендз Томашевский. Согласно пункта второго Устава из раздела «Задачи общества» – «Римско-католическое им. Св. Николая религиозное общество… управляет имуществом, полученным по договору от местных органов Советской власти». Этим пунктом органы Советской власти недвусмысленно намекали, кто в Советском доме хозяин и кто является истинным владельцем имущества, всегда принадлежавшего каменским католикам. Да плевать, кому это все раньше принадлежало! Скажите спасибо, что вам, католикам, дают возможность пользоваться этим вашим костелом и всем, что в нем есть, и еще устраивать религиозные собрания!
В том же втором пункте Устава появилось еще одно новое принципиальное положение: «Общество… назначает (!) служителей культа согласно каноническим правилам Римско-католической Церкви для совершения религиозных обрядов». И хотя с точки зрения Канонического права Римско-католической церкви – это был настоящий бред, но что до этого Екатеринославскому Губадминотделу? Главное, что все вопросы управления делами общины «разрешаются на общих собраниях открытым голосованием», а не принадлежат настоятелю, как это было раньше. Но то раньше! И вообще, что это такое – настоятель? Есть Председатель Правления общества и никаких настоятелей!
И ксендз Томашевский вынужден был подписать Устав в качестве Председателя Правления. Вместе с ним Устав религиозного общества подписали: секретарь – А. Милевский, члены правления – Л. Пацановский, М. Герасимович, Б. Конаржевский, М. Новицкая, И. Бжезицкий, А. Крицкая, М. Баласевич и другие. Некоторые «члены правления» подписывались по-польски.
Но самым многозначительным и страшным был 11-й пункт Устава из раздела шестого «Порядок закрытия общества».
– Общество может быть закрыто:
а) по постановлению соответствующего исполкома или НКВД;
б) вследствие ареста части членов общества…
Над РСФСР, Каменским и римско-католической общиной Святого Николая опускалась ночь большевизма.
На основании декрета Папы Пия XI от 10 марта1926 года, территория Тираспольской епархии была разделена на несколько апостольских администратур: в Одессе, на Волге, на Кавказе, в Тифлисе и Грузии. К концу 1930 года вследствие репрессий со стороны Советской власти Тираспольская римско-католическая епархия фактически прекратила свое существование.
Глава 22. В предчувствии смерти
Но костел был еще жив… В 1925 году на смену ксендзу Константину Томашевскому в костел прибыл священник Яков Розенбах.
Яков Розенбах, немец, из колонистов, родился в 1885 году. Сан католического священника он получил в 1909 году, а в 1910 году становится администратором приходской церкви во имя Успения Пресвятой Девы Марии в г. Ямбурге под Екатеринославом. Согласно переписи 1926 года в Каменском насчитывалось поляков 2116 человек или около 7% населения, а количество прихожан костела Святого Николая сократилось до 183 человек. Эти 183 католика, так же, как и православные, иудеи и протестанты, очень мозолили глаза Советской власти Каменского, а еще более – храмы, которые они посещали, вместо того, чтобы ходить на профсоюзные собрания. Человек верующий самим своим существованием находился в оппозиции к власти, исповедующей безбожие. Но человека можно запугать, заставить замолчать, публично отречься от Бога или принудить из опасения за жизнь не приходить туда, где хотя бы двое или трое собираются во Имя Бога. А вот Церковь даже под страхом смерти не может сказать, что Бога нет, иначе – это уже не Церковь. Это прекрасно понимали идеологи строительства нового мира. Из каких щелей они только повылазили?
Ксендз Розенбах и в условиях психологического террора продолжал делать то, что обязан делать католический священник: отправлял мессы, крестил детей, исповедовал кающихся, причащал исповеданных. Но к этим заботам прибавилась еще одна. В 1925 году неутомимыми властями была разработана типовая форма «Описи культового имущества, находящегося в молитвенном здании». Такую опись требовалось составлять ежегодно с указанием наименования всех (!) предметов, находящихся в костеле, церкви, синагоге или ином доме молитвы. В соответствующие графы вносились данные – из чего изготовлен предмет, его вес, стоимость и состояние. В примечании делалась отметка соответствующего Админотдела или Исполкома об исключении предмета из обихода по сравнению с предыдущей описью с указанием причины. В случае пропажи предмета требовался акт милиции о пропаже.
Шестого августа 1927 года была составлена очередная унизительная опись, в которой от бдительного глаза представителя Админотдела не укрылось ни молитвенное здание костела с железной оградой, оцененное в 50 тысяч рублей, ни миска эмалированная из квартиры настоятеля за 40 копеек. Две урны с мощами – а по преданию это были мощи святого Николая и святого Казимира – не имеющие для прихожан Каменского костела денежного эквивалента, были оценены в 40 рублей, очевидно исходя из веса урн, составляющего 1 фунт каждая.
Как «хорошее» было оценено состояние большого дубового алтаря, боковых алтарей, амвона, четырех исповедальней, 24-х двойных скамей, изготовленных все из дуба. Как «удовлетворительное» – состояние распятия и семи больших статуй святых, центральной люстры и органа, термометра на дверях, купели каменной, икон, катафалка, гроба и савана, малых статуй и многого другого. Всего же опись костельного имущества за 1927 год насчитывала 230 предметов.
По сравнению с очень нелегким временем настоятельства ксендза Томашевского, положение отца Розенбаха становилось еще сложнее. Официально он уже не был не только настоятелем костела, но даже председателем общины! Гражданин Яков Розенбах считался нанятым общиной священником, а председателем правления стал гражданин Казимир Крицкий. И не важно, что Казимир Крицкий, как и другие члены правления, был заслуживающим доверия католиком. Статус священника низводился до уровня наемного работника, ведущего историю своего священства не через рукоположение епископов от Иисуса Христа, а от волеизъявления членов религиозного общества, которым можно управлять из кабинета Губадминотдела.
В начале 1928-го года по указке ГПУ советская пресса зашипела обвинениями в адрес духовенства епархии в антиправительственной деятельности. Видимой причиной газетной истерии было появившееся в печати Открытого письма Подольского католического духовенства, в котором излагался взгляд на события, происходящие в Российской Федерации. Как ответ на это письмо и реакцию властей на него, 28 января 1928 года под нажимом Отдела культов состоялось заседание Правления римско-католической общины г. Каменского с повесткой дня «Выяснение нашего отношения к опубликованному в последнее время в нашей печати письму инициативной группы ксендзов Подольского римско-католического духовенства». В протоколе было отмечено, что на заседании присутствуют 10 человек и участвует ксендз Розенбах. Председателем заседания был избран Ян Рудницкий, секретарем – Птак Иван. Если бы не отсутствие красного кумача на столе, то со стороны могла бы создаться полная иллюзия собрания профактива. Собравшиеся заслушали «Доклад Председателя правления Крицкого Казимира об опубликованном письме и появившимися в связи с этим обвинениями духовенства нашей епархии в антиправительственной деятельности».
Постановили: констатируя, что деятельность лиц духовных местного прихода за все время существования Советской власти всегда ей подчинялась и была лояльной:
1. Протестовать против всякой политической деятельности, имевшей место в кругах духовенства римско-католического, в пользу какого бы то ни было заграничного государства, ибо Советская власть, представляя равноправие каждой национальности в РСФСР, дает возможность удовлетворить своим культурным и духовным потребностям.
2. И в дальнейшем совестно, как это подобает религиозному человеку, подчиняться всем правительственным распоряжениям и лояльно держаться.
3. Предложить всем нашим католикам, членам общины на общем собрании высказать свое мнение по поводу этого и присоединиться к нашей резолюции.
4. Общее собрание созвать в ближайшем будущем.
Подписи: Павловский, Ходоровский, Ринкевич, Цихоцкий, Крицкий, Руликовский, Милевский, Буткевич, кс. Розенбах.
Под протоколом с надписью «копия верна» стояла еще одна подпись – инспектора отдела кадров Николаевского.
Конечно, и само собрание, и доклад, и обсуждение, и резолюция были лишь данью все более наглым и настойчивым требованиям властей осудить самих себя и своих пастырей.
Лишь бы отвязались! Но уже многие понимали – эти не отвяжутся. И хотя резолюция была очень обтекаема, было ясно – ничего хорошего от этой власти ждать не приходится.
Но все же костел пережил еще один праздник. На Пасху 1928 года ксендз Розенбах подготовил группу детей к их первому Причастию. Как оказалось, это было последнее первое Причастие в костеле Святого Николая города Каменского. Их было пятнадцать человек: девочки в белых платьях и мальчики в темных костюмчиках. После таинства Причастия ксендз Яков Розенбах в окружении детей сфотографировался на память на крыльце дома священника. Какой печалью веет от этой фотографии! Кажется, дети и ксендз видят будущее. Но никто из них еще не знает, что через год костел будет закрыт, начнутся репрессии, а дети, понемногу взрослея, станут скрывать свою принадлежность к католической церкви. Но не забывать о ней.
В конце 1928 года в Каменском на основании инструкций ГПУ была начата кампания по закрытию молитвенных зданий: «заводской» православной церкви, новой синагоги, кирхи и костела. По цехам металлургического завода им. Дзержинского, организациям и квартирам собирались подписи за закрытие по национальному признаку принадлежности к религиозным группам. Все материалы – подписные листы, вырезки из газет, перечень проведенных мероприятий были собраны и находились в особых папках в делах Райкома. Согласно отчетам, было проведено 89 бесед с охватом 20 тысяч 963 человек, антипасхальным карнавалом вечером под Пасху охвачено 6 тысяч человек, под Троицу в антирелигиозном гулянии участвовало 4 тысячи человек. Проведено два доклада по радио и общее собрание «Союза воинствующих безбожников» (ах, какое название!), на котором присутствовало 450 человек. Два антирелигиозных вечера дали охват 800 человек. На учительской конференции был поставлен доклад об антирелигиозном воспитании в школе, где присутствовало 250 человек. Конференция приняла резолюцию о присоединении к подписям рабочих своих голосов о закрытии «заводской» церкви. Однако в феврале-марте 1929 года в Каменское из Окружкома пришло распоряжение приостановить кампанию, и все временно утихло. К этому моменту количество прихожан Каменского костела упало до невозможной цифры – 118 человек. Но худшее ожидало впереди.
За репрессиями по отношению к крестьянству последовали репрессии по отношению к религии. Декрет ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях», принятый 8 апреля 1929 года, строго ограничивал деятельность всех Церквей, а также нерелигиозных христианских объединений. Декрет ставил своей целью уничтожение какой бы то ни было религиозной жизни. С незначительными изменениями декрет «О религиозных объединениях» сохранял свое значение вплоть до 1990 года. Как и другие Церкви, Католическая Церковь также должна была исчезнуть из общественной жизни Советского Союза: епископы и священники в ходе «чисток» арестовывались, лишались службы или вынуждены были скрываться, некоторые из них были просто уничтожены – нет человека, нет проблемы! – а все костелы подлежали закрытию.
Днепропетровская газета «Звезда» опубликовала фельетон, в котором обвинила настоятеля Каменского прихода ксендза Якова Розенбаха в связях с проститутками. И хотя ни имен свидетелей, ни имен проституток названо не было, сам факт публикации был настолько серьезен и страшен по своим возможным последствиям, что ксендз Розенбах был отозван из Каменского. Людская молва устойчиво утверждала, что он все равно был арестован.
Завокрадмотдела
Днепропетровского округа
Прошу Вашего указания, возможно ли занять под квартиру для семейных работников милиции, ввиду квартирного кризиса в г. Каменском, бывшую квартиру польского священника-ксендза, какой скрылся из г. Каменского неизвестно куда после фельетона, помещенного в газете «Звезда». Квартира его состоит из двух комнат и кухни, где в настоящее время живет только его прислуга. Причем в Польской общине имеется разрешение Днепро-Петровского Окр. Исполкома на занятие при костеле под сторожку не более двух комнат. Но так как указанная выше квартира бывшего ксендза находится в стороне от костела за другими зданиями и не как сторожка при костеле, а особняк, который занимал ксендз, то совершенно не может быть сторожкой, как заявляет община.
Зав. райотделом – начальник
рай. милиции /Максимович/
В это же время в Днепропетровске состоялось заседание с повесткой дня «О состоянии подготовительной работы к закрытию мол. домов в г. Каменское», на котором докладывал инспектор отдела культов Николаевский.
– Костел. Помещение находится в центре города. Шикарное здание готического стиля. Община смотрит чертом. Это не община, а осиное гнездо. Местные работники с удовольствием закрыли бы костел, да опасаются «международных осложнений». Помещение приспособить под что-либо труднее, чем церковь, но можно. Будет удобнее произвести закрытие заодно с остальными молитвенными домами под общую компанию. Община пользуется церковным домом под видом сторожки, используя под жилье ксендзу. В данное время этот дом пустует. От костела этот дом удален, его нужно отобрать, т.к. община не использует его по прямому назначению, и вселить туда работников района.
Подготовка к закрытию. Выяснено, что имеется возможность подготовить общественное мнение к закрытию «заводской» церкви, новой синагоги, костела и кирхи. Собрано подписей – 3574. Конечно, этих подписей для закрытия четырех молитвенных домов недостаточно, так как такое количество не может выражать всего общественного мнения.
Зав. АПО тов. Смирнов ручается, что как только будет дано согласие Окружкома на проведение кампании, то по цехам будут немедленно проведены с успехом доклады и внесены единогласные постановления о закрытии молитвенных помещений. Полагал бы немедленно дать директиву в Каменское о проведении кампании по закрытию 4-х молитвенных домов.
Директива не заставила себя ждать, и кампания по закрытию молитвенных домов в Каменском началась с залпа еженедельной рабочей газеты «Дзержинец». Номер от 17 октября 1929 года вышел под шапкой – «Превратим гнезда черной реакции в очаги культуры». Чуть ниже было напечатано: «Дзержинцы и правдовцы требуют немедленного закрытия молитвенных домов, их не должно быть в городе строящегося социализма». Передовая статья «В поход на религию» трубила: «На путях строительства социализма у нас немало трудностей, но мы их преодолеваем творческой энергией миллионных трудящихся масс. К числу тормозов и трудностей в дальнейшем строительстве необходимо отнести религию. Церкви, костелы, синагоги и т.д. – это трибуны, откуда раздается контрреволюционная агитация за срыв всех мероприятий, направленных в сторону улучшения социалистического строительства – должны быть ликвидированы. Нас, дзержинцев, рабочие завода Петровского (в Днепропетровске – авт.) вызвали последовать их примеру. Пойдем и мы в культурный поход против агентов капитализма: попов, ксендзов, раввинов. Выгоним их из последнего убежища, закроем церковь, костел, синагогу, кирху, превратим эти убежища в культурные очаги. Против религии и религиозных организаций, являющихся тормозами социалистического строительства!
Шире фронт культурного строительства!
За Ленинское коммунистическое просвещение!»
Заводской комитет Всероссийского Союза Рабочей Молодежи в статье «Разрушим остатки капиталистических крепостей» прекрасно подпевал старшим товарищам: «Наступает 12-я годовщина пролетарского Октября, который разрушил капиталистическую и создал новую, пролетарскую культуру. Пролетарии-Дзержинцы… должны быть передовыми бойцами и на культурном фронте, выкорчевывая остатки старого капиталистического дурмана: церкви, синагоги, кирхи, костелы, которые имеются на территории нашего города и занимают огромные помещения в то время, когда мы ощущаем острый недостаток в домах даже для такого важного дела, как проведение культпросветной работы со строителями социализма… Вот почему заводской комитет выражает уверенность, что рабочие наших заводов все, как один, дадут свои подписи за закрытие очагов одурманивания и за превращение их в культобразовательные заведения. Не должно быть остатков капиталистических крепостей на территории города строящегося социализма! Закроем очаги мракобесия! Превратим церкви, синагоги, костелы и кирхи в книгохранилища, клубы и школы.
Да здравствует социалистическая реконструкция!»
И еще одна заметка из этого номера «Дзержинца».
Встретили аплодисментами
Вчера, 16 октября состоялось общее собрание женщин-рабочих. В собрании принимали участие более 250 женщин, которые предложение о закрытии молитвенных домов встретили бурными аплодисментами. Предложение принято единогласно.
Знаменательно, что многие выражения публикаций «Дзержинца» повторили выражения доклада инспектора отдела культов Николаевского и в точности предвосхитили будущее постановление о закрытии молитвенных зданий Каменского. Судьба костела, как и других храмов города строящегося социализма, была предрешена. В Каменском развернулась небывало мощная кампания по сбору подписей за закрытие.
Из 46 тысяч 451 жителя Каменского, 23 тысячи 871 из которых с правом голоса, было собрано 20 тысяч 560 подписей. И первого декабря 1929 года вышло постановление президиума Окружного исполкома Украины о закрытии в г. Каменском православного собора, костела, синагоги и кирхи. Основанием, формальным основанием для закрытия Каменского костела, послужило то, что большинство поляков Каменского (поляков! а не католиков, вот где пресловутое равенство «католик = поляк» сослужило плохую службу) высказались за закрытие костела, к тому же оставшегося без священника.
Согласно того же решения Окружного исполкома в конфискованных церковных помещениях постановлялось открыть: книгохранилище – в церкви, интернациональный клуб немцев, евреев и белорусов – в синагоге, пионерский клуб – в кирхе, польский клуб – в костеле. Закрытие началось 10-го декабря с синагоги. На следующий день вызвали председателя православного общества и сообщили о закрытии собора. Тут же приехали подводы и вывезли из собора серебро, одежду, иконы и в 16 часов опечатали собор.
Двенадцатого декабря у католиков был отобран костел. Имущество вывозили ранним утром. А тринадцатого декабря 1929 года большевики закрыли и опечатали и кирху.
Боже, что они с нами делали!
Судьба отца Якова Розенбаха
К 1929 году органы ГПУ подготовили материалы для закрытого судебного процесса по делу польского духовенства. Ксендзов обвинили в участии в контрреволюционной повстанческой организации «Польская организация войсковая» для шпионажа в пользу Польши, в нелегальных переходах границы, в систематической контрреволюционной агитации против советской власти и противодействии советизации прихожан, особенно молодёжи. Несмотря на немецкое происхождение, попал в эту мясорубку и ксендз Яков Розенбах. 12 октября 1929 года отец Яков был арестован в Днепропетровске, и в начале 1930 года по постановлению Спецколлегии Днепропетровского областного суда приговорён по ст. 54-10, 170 и 111 УК УССР к пяти годам концлагеря. За время следствия в Каменском произошли грязные события по закрытию молитвенных зданий: заводской православной церкви, синагоги, кирхи и костела.
Местом отбывания наказания отцу Розенбаху определили Соловки, на которые в ту пору в массовом порядке высылались священники, как латинского, так и восточного обрядов. Все, болезненно разделявшее греко- и римо-католиков, на Соловках само собой исчезло. Они были теперь только братьями во Христе, носителями света Христова в окружающей духовной тьме. Прибыв 23 апреля 1930 года в Соловецкий концлагерь, ксендз Яков Розенбах попал на остров Анзер, где католических священников поселили в отдельном бараке. Им даже на работах запрещалось любое общение с другими заключенными.
Двадцать три священника находились скученными в комнате три-четыре метра длины и около двух метров ширины. Часть спала на полу, а часть – на нарах, на высоте около метра от пола, совсем как «селедки в бочке». Удивительно, что и в таких условиях ксендзы нашли возможность исполнять свой священнический долг, о чем рассказал позже переживший испытание Соловками греко-католический священник, отец Донат:
«Установили в комнате сколоченный стол, на котором совершали богослужения западные отцы. Чтобы не было заметно со двора, что по ночам происходят на чердаке богослужения, мы тщательно завешивали окно комнаты плащами».
Однако летом 1932 года двадцать три члена лагерной коммуны были арестованы, и началось следствие по групповому делу «антисоветской контрреволюционной организации католического и униатского духовенства на острове Анзер». Священники обвинялись «в создании антисоветской группировки, ведущей антисоветскую агитацию, тайно совершавшей богословские и религиозные обряды и осуществлявшей связь с волей для передачи за границу сведений шпионского характера о положении католиков в СССР».
Члены коммуны держались на следствии с большим достоинством, отстаивая свои религиозные убеждения и категорически отрицая все политические обвинения. Приведем лишь ответ Якова Розенбаха на одном из допросов: «Что касается католицизма – моих убеждений не изменю. Таким же твердым, как был до лагеря и заключения, остался и сейчас. Вражды к советской власти я не питаю, но поддерживать безбожия я никогда не мог и не смогу, не пойду против своей совести». (Следственное дело ксендзов. Архив УНКВД г. Архангельска).
По окончании процесса, на котором судьи отклонили ходатайство следствия об увеличении срока до 10 лет, восемь ксендзов отправили в Ленинградское ГПУ, других разослали по самым тяжелым командировкам либо отправили в Белбалтлаг. Отца Розенбаха оставили на Соловках. В ноябре 1933 года он был освобожден из лагеря с отметкой «12», означающей запрет на проживание в двенадцати крупнейших городах СССР, и выслан на поселение в Курск, где работал в конторе. В конце 1937 года Якова Розенбаха опять арестовали по новому сфабрикованному делу, как «агента польской и немецкой разведок и участника фашистско-шпионской организации». Это уже был конец. Приговор над Яковом Иосифовичем Розенбахом, немцем, 1885 года рождения, приведен в исполнение в Орле 10 апреля 1938 года через расстрел.
18 февраля 1938 года в Днепродзержинске (ул. Тупая, 6-1) был арестован, а 14 октября того же года осужден решением Особой Тройки к расстрелу, как «польский шпион», бывший староста Каменской римско-католической общины 68-летний Александр Матвеевич Милевский. Еще перед закрытием костела его вызывали в НКВД «на беседу» и очень интересовались, что носит в портфеле ксендз Розенбах.
Мир вашему праху!
Глава 23. Второе рождение
Совершенно очарованная ксендзом Юрием и интуитивно чувствуя, что инициативная группа по спасению костела на верном пути, Нина Александровна Цыганок отменила сеансы художественных фильмов в музейном кинозале и предоставила католикам по цене входных билетов это теплое помещение для проведения богослужений. Данная стоимость аренды кинозала была смехотворно малой, но внешне соблюдались все формальности, и Нина Александровна могла быть спокойной, что ее не обвинят в нерачительном использовании музейных площадей, и одновременно довольной, что она поддерживает католиков в самый трудный период.
Рождественское богослужение 1991 года проводил ксендз Виктор Ткач, настоятель костела села Гвардейское, что в Хмельницкой области. Было морозно и снежно. Людей собралось около тридцати, в основном старики. Ксендз Виктор, высокий, черноволосый, улыбчивый и отрешенный – такой украинский парубок – промчался восемьсот километров, чтобы отслужить мессу в Днепродзержинске.
– Будет охмурять, – подумал я, когда нас подвели друг к другу. Это казалось неизбежным, положенным ему «по штату» – обращать в свою веру всех заблудших овец. А поскольку я был овцой совершенно заблудшей, то решил не сдаваться. Но ксендз Виктор «охмурять» меня почему-то не стал. Он быстро отшил «старосту» Марчука, которому очень хотелось вставить и свое словечко в разговор. Роль неформального лидера Станиславу Брониславовичу порядком приелась, и ему хотелось чего-то большего.
Деньги за вход собирали и отдавали музейной билетерше сестры-близнецы Цеся и Зося Селянские. Я так и не понял, кто из них Цеся, а кто – Зося. Сестры Селянские настолько похожи друг на друга, что на первых порах нашего знакомства я даже не пытался их различить. Просто я знал, что одна из них – наверняка Зося. Их невозможно представить отдельно друг от друга. У них все одинаковое: характер, черты лица, фигура, походка, одни интересы, вкусы, привычки и одна судьба.
Ксендз Виктор начал мессу. Кроме католиков в зале находились музейные сотрудники, они попросили разрешения присутствовать на службе и послушать проповедь. Служба протекала своим чередом, пока не дошел черед до исповедания Символа Веры. Когда ксендз Виктор, а за ним остальные провозглашали «верую в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца и Сына исходящего»… вдруг вскочила со своего места жена «старосты» и громко закричала:
– А я несогласная! Это ж неправильно!
Ход мессы явно дал сбой, не заметить выпада было невозможно, и люди пытались взглядами урезонить несогласную супружницу «старосты» Марчука.
– Та вы не слухайте ее, она же лечилась! – приговаривал «староста», пытаясь усадить свою половину на кресло. Когда ему это удалось, Станислав Брониславович, с неизменно плутоватым выражением, продолжал объяснять соседям что-то по поводу жены и просил не обращать на нее внимания.
Я тоже не испытывал никакого восторга и трепета от богослужения. Для меня это все было лишь зрелище, лишенное красоты и глубинного смысла. Верующие пели нестройно и фальшивили. Ксендз Виктор, честно признавшийся, что ему медведь на ухо наступил, фальшивил громче всех, и если что-то и было красивое в самих песнях, то такое исполнение сводило на нет всю их красоту. Внешнее восприятие музейной мессы эстетически меня никак не впечатлило, и было вдвойне непонятно, почему увлажняются глаза у пришедших сюда в такой мороз. И зачем эта старуха Сабина Пацановская, кряхтя, становится на колени, ведь ей тяжело, но не жалуется, а наоборот, вроде как ей это приятно делать. Не понимаю…
Слово «вера» для меня оставалось лишь словом, я знал, что такое понятие существует, но воспринимал веру, как приятное заблуждение. И чувствовал себя не в своей тарелке: стать самому на колени казалось совершенно невозможным и унизительным. Как это – взять и стать на колени?! Ведь мы – как нас учили, и чему мы гордились – ни перед кем не станем на колени, мы – не рабы! А с другой стороны, вот все становятся, а ты, как неизвестно кто, чужеродный элемент, не знаешь, что с собою делать: или стоять столбом во весь рост или неуважительно плюхнуться в кресло?
Приехать машиной в Днепродзержинск через всю Украину, чтобы отслужить мессу и назад! Не понимаю, опять не понимаю… Слишком много вопросов ставила передо мной эта неказистая месса.
Начало 1992 года ознаменовалось появлением в Днепродзержинске нового священника – ксендза Николая Гуцала из Жмеринки. Он приехал сюда вместе с ксендзом Виктором Ткачом, чтобы продолжать дело возрождения католической общины. Мессы проводились в музее истории города, после которых ксендз Виктор предложил ходить к костелу и молиться на его ступенях.
– Нельзя находиться в комфортных условиях музея, когда наш костел остается там один, – сказал ксендз Виктор.
Впоследствии, в течение почти двух месяцев, мессы проходили в непосредственной близости от костела в бытовке ЖЭКа металлургического комбината. Встречи католиков приобретали постоянный характер, и как-то само собой стало ясно, что можно регистрировать общину.
Именно с таким настроением я и открывал дверь уполномоченного по делам религий облисполкома В. Шендрика, держа в руках документы на регистрацию римско-католической общины Днепродзержинска. Однако уполномоченный быстро развеял мои иллюзии относительно того, что он, хотя бы по долгу службы, должен помогать верующим объединяться.
После того, как я представился, Владимир Сергеевич долго не отрывал голову от письменного стола, а затем спросил:
– Так кто вы такой: депутат горсовета или член католической общины?
Не моргнув глазом, я сориентировался в создавшейся ситуации и заверил кабинетного работника в том, что я именно католик. Спустя много времени я узнал, что в тот момент я совершал структуральный грех.
– То, что вы депутат, меня совершенно не интересует, вы меня поняли? А как с католиком, мы сейчас с вами поговорим.
Посмотрев на титульный лист устава общины, заверенного печатью и подписью епископа Каменец-Подольского Яна Ольшанского, он холодно спросил:
– А чем вы можете подтвердить, что это действительно подпись епископа?
От неожиданности я пробормотал что-то вроде того, что сам я в Каменец-Подольский не ездил и не видел, как на уставе расписался именно епископ, однако печать… печать… свидетельствует, что…
– Так, вы не знаете, подпись епископа это или нет.
– Может, вам справку привезти, что это его подпись? – начал приходить я в себя.
– Вы тут не иронизируйте. Это облисполком! – сурово поставил меня на место уполномоченный и поднял взгляд к большому портрету В. И. Ленина, который добрыми прищуренными глазами наблюдал за нашей беседой.
Пролистав Устав, В. Шендрик вновь поинтересовался:
– Вот здесь на первой странице написано «римсько-католицька», а на второй – «римо-католицька». Это одно и то же, или нет?
– Я думаю, одно и то же, – бодро начал я, но договорить не успел.
– Думаете? То есть, вы не уверены? Да вы толком ничего не знаете, а пришли в облисполком регистрировать неизвестно какую общину! – разгорячился верный ленинец.
– Значит, вы нам отказываете в регистрации? – чуть нажал я на уполномоченного, слегка опасаясь, а не отправит ли он меня сейчас за нужной справкой куда-нибудь на Соловки
– Разговор окончен! – оборвал появившиеся опасения мой оппонент. – Документы отнесите в канцелярию. Разберемся!
В общем, проблуждав добрый месяц по недрам облисполкома, подгоняемые звонками из Днепродзержинского горисполкома и личным визитом в Днепропетровск «старосты» Марчука и прихожанки Кайгородовой, эти документы вернулись к нам в горисполком с мобилизующей пометкой «Срочно!». До 25 января 1992 года подтвердить согласие на регистрацию общины и готовность местных властей передать верующим костел.
Из Днепродзержинска в область немедленно ушла депеша:
Уполномоченному облсовета по делам религий В. Шендрику.
Исполком совета народных депутатов не возражает против регистрации общины римско-католической церкви г. Днепродзержинска и в дальнейшем намерен передать здание католического костела по адресу: ул. Коваленко, 3 на баланс общины для использования его в культовых целях.
Заместитель председателя исполкома
О. Плахотник
– Что делать, – вздыхали верующие, – шестьдесят лет ждали, еще два месяца подождем.
И запасались терпением для новых встреч в каждое второе и четвертое воскресенье месяца.
На ксендза Николая Гуцала, молодого, высокого, талантливого священника, днепродзержинский костел явно производил сильное впечатление. Ксендз Николай смотрел на башни костела и с легким юмором говорил:
– Костел Николая и я Николай. Что-то в этом есть.
Подумалось, что передо мной будущий настоятель нашего костела. Что ж, очень неплохо! Ксендз Николай установил «телефонный мост» между Днепродзержинском и Жмеринкой, сам все чаще появлялся в Днепродзержинске, привез сюда трех архитекторов из Винницы, начал искать местных спонсоров. По предварительному заключению Юрия Плясовицы, руководителя архитектурной мастерской, костел в Каменском действительно строился на века. Его зодчие будто предчувствовали нелегкую судьбу и тяжелые испытания, которым будет подвергаться католический храм. И теперь, несмотря на свой плачевный вид, технически костел находился в очень приличном состоянии, позволяющем начать строительно-реставрационные работы.
В конце марта мы наконец-то получили ксерокопию решения облисполкома № 66 от 4 марта 1992 года. Этот документ, являвшийся бесподобным образцом канцелярского слога, назывался – «О регистрации статута общины римско-католической в г. Днепродзержинске и разрешении на передачу ей бывшего культового сооружения по ул. Коваленко, 3».
Но главным здесь, конечно, был не слог, а то, что стояло за ним. Нас зарегистрировали! Зарегистрировали! Еще немного и костел будет наш!
Двадцать второго марта в костеле вместе с ксендзом Николаем появился еще один новый священник – ксендз Мартин Янкевич. Как он мне не понравился, этот ксендз Мартин! Невысокий, со слишком густыми бровями, с рюкзаком за спиной, он был совершенно не похож на «наших» гренадеров-ксендзов, бывших тут до сих пор. Он плохо говорил по-русски, ставя ударения в самых невероятных местах, путал слова и казался совершенно беспомощным.
Месса проходила в костеле на втором этаже под барельефом с классиками марксизма-ленинизма. Здесь стоял грубо сколоченный стол, послуживший алтарем, и было много мусора, битого стекла, досок и всякого железа. Собравшиеся наутро старушки убрали этаж от мусора, вымели пол, а мусор сложили у окна.
А в это время инициативная группа по спасению костела готовила свой последний из значительных документов. Это было Решение о передаче костела Святого Николая римско-католической общине. Основанием для передачи костела были заявления общины, инициативной группы, депутатской комиссии по культуре, а также соответствующие статьи из законов «О свободе совести» и «О местном самоуправлении». Мы собирались в кабинете заведующей отделом культуры и колдовали над текстом решения. Плоды нашего творчества передавались наверх к О. Плахотнику, который вносил свои замечания, и все начиналось сначала.
Зося и Цеся Селянские пропагандировали меня, где могли.
– А это Саша Слоневский, наш депутат. Он первый позвал всех в костел, а мы уже к нему присоединились и вместе его восстанавливаем…
– Познакомьтесь, это депутат горсовета, который первый позвал всех в костел…
– Знаете, кто это? Это папа и мама того самого Саши Слоневского, который первый…
Увидев в окружении Зоси и Цеси новое лицо, я безуспешно пытался забиться где-нибудь в угол, но везде находил меня их спаренный энергичный голос:
– А это Александр Юльевич, который…
Я чувствовал слепящий ореол над своей головой, а за спиной – пробивающиеся ангельские крылышки.
– Вы еще не знакомы? Ну, как же! Ведь это…
Не дожидаясь официальной передачи костела, приход начинал жить своей самостоятельной жизнью, факты которой фиксировали Зося и Цеся Селянские в «Дневнике возрождения общины». Почти все из происходящего происходило впервые. Или впервые за много лет. Но очень быстро приобретало постоянный характер.
12 апреля 1992 года. Елена Войцеховна Барановская первая пожертвовала 1000 рублей «на костел».
19 апреля. Первое Пасхальное Богослужение на «втором этаже» костела. Присутствовало около 100 человек.
24 апреля. Впервые появившаяся техника, присланная с металлургического комбината, начала уборку мусора на территории двора костела.
Мебельная фабрика изготовила три скамейки; там же, на мебельной фабрике, заказан большой деревянный крест.
Трое студентов института сбили гипсовый барельеф Маркса-Энгельса-Ленина.
Архитектор Ю. Плясовица привез первый том «Проекта реконструкции костела».
В Днепродзержинский костел начали приезжать католики из Днепропетровска и Запорожья.
14 июня. В праздник Святой Троицы состоялось венчание в костеле. 65-летний Роман и Антонина Руновские – первая костельная чета новейшего времени.
Приготовлено жилье для ксендза Мартина у прихожанки Алины Игнатьевны Селянской по ул. Короленковской, 37.
Похоже, ксендз Мартин решил обосноваться в Днепродзержинске надолго и всерьез.
Семнадцатого июня 1992 года председателем горисполкома С. Шершневым было подписано Решение № 484 «О передаче здания римско-католической церкви Святого Николая и прилегающей к ней территории».
Ну, наконец-то…
Конец первой части. Начало второй части книги читайте здесь
